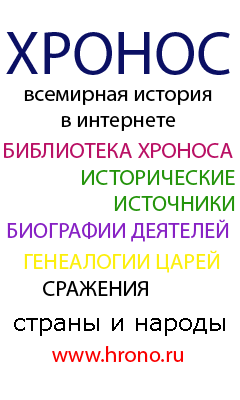Демидова Е. В. Воинское дело славян и их окружения.
Проблема воинской культуры славянских народов была и считается одним из ключевых звеньев в цепи неразгаданных тайн отечественной и мировой истории. Парадокс состоит в том, что даже в рамках единой концепции зачастую и превозносится до небес мастерство славянских воинов, и ставится под сомнение боеспособность славянского войска, да и факты существования сколько-нибудь стройной военной организации. Сведения и мнения об их вооружении, тактике, военно-социальной структуре неоднозначны и противоречивы.
В чем же причина неразрешимости этих проблем? Пожалуй, дело в методике и семантике подходов к их изучению, в хронологии и географии славянской истории, в особенностях славянского этногенеза.
Говорить о "запаздывании славянских народов в развитии", а точнее, в "приобщении к цивилизации" неверно. Славянство не моложе и не "старше" прочих индоевропейских этнических групп. Просто, с одной стороны, становление славянства и славянских этносов приняло затяжной, более продолжительный, причем и во времени, и в пространстве, характер, чем у их соседей; с другой стороны, встав на путь цивилизации, славяне не вошли, подобно кельто-романским и германским народам, в мир западной "римской" цивилизации. Одно дело - "технические" заимствования вроде алфавита, традиций зодчества, даже живописи, ремесла, экономики и юриспруденции, даже философских и религиозных концепций. Общая же система ценностей и общественных взаимоотношений - причем не только в среде людей, но и с природой, Космосом - дело совсем другое.
"Европеизация" славян в западном, "римском" понимании затянулась не на несколько веков, как у германцев, а на тысячелетие. Первые ее плоды на землях Центральной Европы появляются только в XIII в., когда в "римский круг" уже окончательно вошла Скандинавия, и только в наши дни - по-видимому! - судьба западных славян, их цивилизационная ориентация определилась окончательно. А что до "Трансбалкании" и Восточной Европы, то кто знает, может быть, их ожидает еще один семивековой цикл, еще один виток развития мирового социума, проведенный "на распутье". Но лучше возвратиться от футурологии к истории.
Следует сказать еще об одном комплексе причин пестроты воинских традиций славян. Славянские племена и народы, причем именно в период этногенеза, который для некоторых из них, возможно, не завершен и по сей день, занимали и занимают огромные пространства от Рейна до Амура и от Адриатики до Тихого океана. Их область расселения накладывалась и накладывается на ареалы других, и пришлых, и автохтонных, народов, самых различных по своему историческому опыту, традициям, расовой и цивилизационной принадлежности.
С большей вероятностью можно утверждать, что в Евразии нет крупных этнокультурных общностей, с которыми славяне не контактировали и которые не привнесли своеобразных черт в славянскую культуру. Более того, уже на заре славянской истории возникли и развивались этносы, традиционно находящиеся под смешанным влиянием культуры цивилизаций; значительные славянские массивы - в Подунавье, Полабье, на Балканах, включая и Пелопоннес-Морер, - деславянизировались и подверглись ассимиляции, но тем не менее остались в общеславянском, Центрально- и Восточноевропейском сообществе, оказывая свое влияние на соседей и воспринимая его.
Огромные по территории массивы, заселенные уже с древнейших времен, стали ареной формирования славянских народов; славяне унаследовали и обычаи, и генофонд своих предшественников, при этом мирно сосуществуя с анклавами автохтонов-иллирийцев, аланов, алтайцев, угров. Но при всей пестроте, разнообразии хозяйственно-культурных традиций, силе и характере внешних влияний, ландшафтно-географических особенностей славянский мир на протяжении столетий оставался единым организмом, одним из важнейших звеньев в евразийской цепи культур и цивилизаций. Что и дает нам возможность комплексно рассматривать воинские традиции и военно-социальную структуру славянских народов и их непосредственных соседей в Центральной и Восточной Европе.
Образ воина - представителя этноса, формировавшегося в локальном ландшафтно-географическом ареале, охарактеризовать сравнительно легко. Фактически можно говорить о трех основных типах воинской культуры - о "степняке", "горце" и "поморе". Всем трем, бесспорно, присуща "воинственность" - "милитарная пассионарность", впрочем, с четко выраженными особенностями ментально-психологического порядка. Каждый из этих типов - вернее, их местных разновидностей - вырабатывает собственные системы воинского воспитания, боевой подготовки, военной организации и стратегии, тактические приемы, комплексы вооружения и героический фольклор.
Однако замкнутое развитие таких типов предопределяет ущербность и однобокость. Наиболее эффективны смешанные и промежуточные типы, скажем, "горцев-поморов" микенской и дорийской цивилизаций, а также Японии. Тевтонский рыцарь - "помор" (кстати, орденский флот был лучшим на Балтике) и швабский ландскнехт - "горец", дополняя друг друга, заложили основы германской военной школы, равно эффективной против "горцев" Швейцарии и прибалтийских "поморов". Наиболее успешные завоевательные походы степных кочевников имели "в тылу" горы - Кавказ, Алтай, Гиндукуш, а ядро их армий составляли внуки и правнуки горцев, да отчасти и сами горцы.
Славянский мир знает все три основных типа: мореходы Померании (Висло-Одерского междуречья) и северодвинского Поморья были достойными соперниками - и соратниками - скандинавских датских викингов; Черногория и Крайна выстояли в вековом противоборстве с османами, а карпатская Верховина оказалась несокрушимой преградой не только для кочевников-авар, мадьяр и татаро-монголов, но и для шведской армии XVII в., в то время лучшей в Европе. Ну а феномен казачества, порожденный степями Приазовья и Причерноморья, а также, между прочим, водными путями, заслуживает отдельного разговора. Но так или иначе, во всех названных случаях речь идет о периферии - зачастую дальней - славянского мира и, более того, весьма сомнительна их славянская "чистокровность". На поморах явственно сказалось фризское (а опосредованно - и кельтское), а также "варяжское" (здесь - северогерманское) влияние; кельто-иллирийские традиции прочно укоренились и на Балканах (янинский албанец-"арнаут" если и отличается от воина-черногорца, то только большей известностью), и в Карпатах ("галльские" корни в обычаях галичан подчеркивались неоднократно); еще более очевидно аланское, выходящее еще к скифам и сарматам, и тюркское влияние на формирование казацкой воинской культуры.
Кроме того, все названные военно-культурные типы отличались приспособленностью к строго заданным природно-социальным условиям и военно-политическим задачам, пусть даже охранявшимся на протяжении веков. Рано или поздно эти блистательные, колоритнейшие мирки настигала неизбежная гибель, крушение военно-социальной организации: в лучшем случае трансформация, передача, по крайней мере, части наследия воинских традиций в арсенал нового единого сообщества, в худшем - и куда чаще - искажение и самоосквернение в междоусобной распре (примеры и в истории, и в современности достаточно очевидны).
Но только ли на периферии славянского мира происходило формирование его воинской культуры? Скорее там возникали очаги отпора внешней экспансии - и, к сожалению, противоположное явление: очаги экспансии вовне - области постоянной боевой готовности и постоянных военных формирований, а в итоге - и профессиональной службы, обычно на поселенческой основе. Несмотря на то что славянин освоился, прижился в степи и горах, на морском побережье и островах, традиционный образ славянина, его жизни и быта, космических представлений и суеверий, исконного хозяйства и военного дела связан с Лесом. Но "лесовик" не случайно не был назван рядом с "помором", "степняком" и "горцем". Коренное различие между ними в том, что "лесовику" чужда агрессивность, инициативность в конфликте. "Лесовик" изначально не воин, а охотник. В отличие от земледельца, рыбака и даже скотовода охотнику-промысловику нужны огромные пространства охотничих угодий, которыми он отгораживается от, соседей, а его миграции принципиально отличаются от перекочевок степняка, приобретающих в эпохи этнических сдвигов и "великих переселений" (рубеж 1 - 2-го тыс. до н. э. и II - VIII вв. н. э.) характер постоянного набега. Да, на границах угодий "лесовиков" тоже происходят стычки (например, с себе подобными - за сохранение и расширение этих самых угодий), но именно периферийность их не способствует "концентрации" сил и духовных устремлений.
С появлением подсечного земледелия охотничья традиция эксплуатации территорий изменяется ненамного, и славянин-земледелец остается тем же "лесовиком", что и его предок-охотник.
Мир "горца" замыкается окружающими родную долину хребтами, морской промысел - арена постоянной борьбы, и право на землю под ногами коня тоже надо отвоевывать и удержать силой; а лес - это всеобщий дом, и обычай гостеприимства "лесовика" действует не только на его подворье, тогда как у прочих он замыкается в стенах родовой башни или пределах стойбища. Море и степь ассоциируются с дорогой - естественно, для морехода и всадника; такую же дорогу образуют цепи горных долин и перевалов. Разумеется, законы "большой дороги" там царят безвозбранно. Ну а мнение славянской народной мудрости о "большой дороге" и тех, кто непосредственно на ней обитает, известно: поговорка "квартира - проходной двор" имеет длинный ряд предшественниц. Лес представляет собой более надежную защиту, чем горы: в горах строят замки - замкнутые оборонительные сооружения, в лесах обходятся засеками, там нет нужды в гигантских городищах, валах и Великих стенах. Позиция "лесовика" даже не оборонительна - его безопасность подразумевается априори, - она открыта. Собственно, здесь и кроется причина непобедимости "лесовика": если его не уничтожить одним ударом, что в условиях леса довольно сложно, то "лесовик", не обремененный шаблонами военной традиции "горца", "степняка" или "помора", перенимает манеры противника и обращает ее против него самого. Не будет большим преувеличением сказать, что практически вся военная история славян, и российская в частности, иллюстрирует этот тезис. "Лесовик" (в нашем случае - славянин) не способен к эффективным превентивным действиям в силу своей неагрессивности, но, обращая агрессию против ее источника, он оставляет за собой последнее слово.
Вообще, неагрессивность "лесовиков" характерна не только для славян. Колонизаторам Северной Америки пришлось положить немало усилий на разжигание межплеменных войн среди ирокезских и алгонкинских племен - земледельцев и охотников на оленей, дабы использовать ее в своих целях. Но, вытеснив массы индейцев из лесов в прерии и способствовав тем самым развитию культуры мустангеров и охотников на бизонов, американцы столкнулись с проблемой "усмирения" новоявленных "степняков" - проблемой, остававшейся для США основной в течение столетия. Только отток индейцев в лесную зону северо-западных штатов положил ей конец. Согласитесь, что история возникновения казачества и урегулирование отношений его с центральными властями имеет ряд общих черт с "индейской проблемой".
Процесс происхождения славян при всей его сложности и разнообразии толкований не может быть рассмотрен в нашем очерке. Но стоит заметить, что процесс этот выглядел скорее не как расселение некой этнической группы из локальной зоны обитания на огромных пространствах Центральной и Восточной Европы, а как объединение, собрание ряда индоевропейских народов и племен, отличавшихся общностью хозяйственной и общественной жизни. Близостью еще не "специализировавшегося" языка и традиционной культуры.
...Славяне формировались как цивилизация "лесовиков". Недаром именно белорусы, единственный европейский народ, отделенный от соседей не горами, водоразделами и морями, а пойменными болотами, заслуженно считается реликтом древних славян (по Л. Н. Гумилеву).
(Истины ради уточним: "лесовик" способен "гибридизироваться" с любым из вышеописанных воинских типов ничуть не хуже, чем сами эти типы между собой. И тогда его миролюбивость куда-то исчезает. Например, лютичи и бодричи как бы заняли экологическую нишу викингов как раз по угасании основной волны викингских походов; поэтому никак нельзя принять "традиционалистскую" точку зрения на отношения этих племен со средневековым германским миром, по которой воинственные и жестокие немцы ни с того ни с сего устраивают набеги на своих миролюбивых славянских соседей. В собственно Киевской Руси элемент "ментальности большой дороги" связан с Днепровским речным путем, который из-за своей масштабности принципиально отличался от "речных капилляров", не разрушающих ментальность "цивилизации лесовиков". Знакомые нам всем хотя бы по "Слову о полку Игореве" отношения с половцами тоже не односторонняя агрессия "степняков", а скорее взаимные контакты-конфликты Степи и Лесостепи. Да и новгородцы, в жизни которых лес-батюшка занимал не меньшее место, чем Волхов-река и Ильмень-озеро, тоже отнюдь не всегда являлись "обороняющейся" стороной в конфликтах со своими соседями - особенно с такими "лесовиками", каковыми на тот момент были многие племена финской группы (правда, те тоже активно приобретали "поморские" черты).
(Между прочим, неожиданно упорное сопротивление Финляндии в "войне незнаменитой" 1939 - 1940 гг. - типичный пример оборонительной тактики "цивилизации лесовиков". Это - дополнительное напоминание о том, что "лесовиками" были не только мы и что мы были не только "лесовиками"...)
Связующими нитями славянского мира, начиная с рубежа новой эры, служили речные пути - дешевые, надежные, безотказные и к тому же не являющиеся доминантами общественной жизни, как "большие дороги" моря и суши. По версии Б. А. Рыбакова, именно полоса, протянувшаяся от Балтики до Поднепровья, путь которой шел от одерского устья через речную систему Вислы и Буга, Припять, Верхнее и Среднее Поднепровье вплоть до порогов и Среднерусской возвышенности, и была прародиной славян, то есть областью непосредственного общения в ходе торговых и военных (да, было уже и такое) экспедиций.
В числе последних были, вероятно, и передвижения венедов, старейшей из известных славянских народностей, с балтийского побережья на юго-восток, в авангарде первой, готской волны Великого переселения народов (II в.). В предшествующем столетии Луций Корнелий Тацит свидетельствовал об идентичности военного дела венедов и германцев, наличии обыденной и мобильной щитоносной пехоты. Мобильность пехоты, очевидно, связывалась с существованием речного и морского флота, а также конницы - в качестве транспортного, а не боевого средства.
Однако пять веков спустя, в разгар завоевательных походов в Подунавье и на Балканы, не уступавших по мощи нашествию гуннов в V в. и послуживших ключевым этапом в процессе собирания славян и заселения ими Центральной Европы, славянская пехота приобретает несколько иной облик. Прокопий Кесарийский упоминает об отсутствии доспеха и небольших щитах, а в качестве наступательного оружия - дротиках и стрелах, зачастую отравленных (ядом могла быть и окись бронзы, из которой наконечники стрел отливались еще в прошлом веке нашей эры). Надо ли полагать, что, выйдя на просторы Паннонии и Фракии, став массовой, славянская пехота утратила часть боевых навыков, присущих клановым дружинам?
"Дружина-свита" клановых вождей ушла в прошлое вместе с родовой, кровнородственной общиной везде, где проходили волны Великого переселения: в Поднепровье - уже во II в., на севере несколько позднее. Родовая община с замашками кланово-кастового строя, породившая системы элитарных воинских искусств у самых разных народов, от кельтов до японцев, уступила место обществу соседской (сельской) общины и "военной демократии" - всеобщего вооружения, массового и ограниченного в плане формирования постоянного войска-дружины.
К слову сказать, в концепции истории докиевской Руси, положенной в основу одного из лучших отечественных исторических романов "Русь изначальная" Валентина Иванова, эпоха "военной демократии", разделявшая крушение родовой общины и формирование дружинного, корпоративного строя, стянута в одно поколение. Реально же этот "переходный процесс" растянулся на полтысячи лет и послужил смешению праславянских племен не только в рамках отдельных племенных союзов, но и населения Восточной и Центральной Европы в целом. Впрочем, это уже проблемы художественной трактовки истории. А трансформации в вооружении древних славян были вызваны, по-видимому, не только кардинальными переменами в их военной организации.
Большие щиты были бесспорной принадлежностью плотного строя, возникшего еще на заре цивилизации в противовес колесницам и лучникам "дружины-свиты" как традиционный способ ведения боя родовой общины, сохранявшегося в сельских, и городских ("полисных"), и в общинно-государственных, от Египта до Рима, ее формах. Однако плотный строй ограничивал возможности ведения ближнего рукопашного боя, вовсе исключая индивидуальный бой. Став магистральным направлением развития военного дела, плотный (сомкнутый) строй совершенствовался в первую очередь в слаженности действий бойцов и их вооружении, единообразном и качественном. В Средиземноморье появляются столь характерные для фаланги и легиона образцы вооружения, как сарисса и пилум, ксифос и гладиус, аспис и скутум. Высокий уровень военной организации и оружейного производства вне государственной системы был исключен, что относится к праславянам и к германцам "доготского" периода, т. е. III - IV вв., когда германские наемники в Риме еще не стали массовым явлением и тем более основой военной системы.
Рукопашный бой в сомкнутом строю мог быть эффективным только при широком распространении меча - массивного двухлезвийного клинка, приспособленного для рубящих и тычково-колющих ударов; без него фаланга пригодна в основном для защиты от метательного оружия - и прикрытия метателей, а в стадии рукопашного боя распадается на отдельные схватки. Распространение меча у славян связано исключительно с внешним влиянием, и на протяжении всего средневековья меч оставался оружием элиты и профессиональных воинов - не более 20 - 25% войска.
Перспективнее и проще, чем совершенствовать собственную фалангу, древним славянам было обзавестись кавалерией в качестве основной ударной силы. Щитоносцы, не имея вооружения и организации тяжелой пехоты - гоплитов и легионеров, могли сдержать удар конницы, но не ответить на него. Эта функция возлагалась на легкую пехоту - стрелков и метателей - и всадников.
Действуя против войск римской школы, славяне вынуждены были придерживаться строго наступательной тактики (так как встретить атаку тяжелой пехоты славянское племенное ополчение было не в состоянии), и действовали они в рассыпном строю, поддерживая конницу, в которой преимущество было за многочисленными и привычными к индивидуальному бою "варварами" (в нашем случае - славянскими воинами). Традиции индивидуального боя, в клановом обществе достигавшие уровня искусства, поднимаясь над прикладным назначением, в эпоху "военной демократии" не утратили своего значения, а приобрели массовую форму, потеснив элитные клановые "священные" школы - там, где они, конечно, сложились.
Поскольку основой славянской военной системы были локальные действия, а не истребление противника, "правильная" тактика, плановый захват территории и т. д. (что характерно для постоянных армий и оправдывает их существование), постольку и задачей воинского обучения было выживание в бою - в поединке, групповой схватке, стычке с превосходящим неприятелем - одиночного бойца, а затем и согласованные действия отряда. Уступая "цивилизованным" народам в вооружении и "профессионализме", славяне превосходили их в мастерстве скрадывания, использования условий местности, организации разведки, засад и внезапных нападений либо уклонения от нежелательного боя - всего того, что обозначалось термином "скифская война".
Римляне всегда добивались успеха, имея достаточное для взаимной поддержки количество легкой и тяжелой пехоты (причем обученной, единообразной по вооружению и комплекту комсостава), зная неприятеля и местность. Преимущество "варваров" было в большей приспособляемости к условиям ведения войны, гибкой тактике и стратегии, в которой открытый бой не был единственным средством достижения победы. Если же учесть неограниченные резервы всенародного войска, то неудивительно, что методами пограничной войны древние славяне сумели провести успешную завоевательную войну на коренных землях средиземноморской цивилизации.
Каким же оружием пользовались славянские воины в эпоху Великого переселения народов II - VIII вв.? Собственно, все оружие, бытовавшее в тогдашней Европе, можно отнести к двум комплексам - европейскому, преимущественно пехотному, формировавшемуся на основе культур гальштадта и латена, в едином ключе с вооружением средиземноморских народов, и восточному, почти исключительно кавалерийскому, связанному в своем развитии со скифами, сарматами, гуннами, тюрками, мадьярами и другими кочевниками евразийской степи. Оба названных комплекса были характерны для древних славян, зачастую причудливо смешиваясь.
Эволюция клинкового и вообще холодного оружия в античном Средиземноморье побудила Европейский Восток к развитию метательного оружия. О метании холодного оружия - копий и топоров - речь впереди, но приоритетным оружием дальнего боя был конечно же лук. В раннем железном веке и в эпоху Великого переселения сложносоставной лук не только возник, но и прошел несколько этапов развития, приобретя значительные боевые качества и гарантированный (т. е. отнюдь не максимальный) 300-метровый бой. Реальным боевым оружием служил и аркан - действенное средство разрушения сомкнутого строя. Практически все нововведения "варварского" способа войны проистекали из необходимости получить преимущество перед римской военной школой - увеличить дистанцию вступления в бой и обеспечить легковооруженных воинов оружием, эффективным против тяжеловооруженных.
Смешанный строй щитоносцев и метателей римляне одолевали еще на заре манипулярного строя силой копейного удара - "до триариев", т. е. не переходя к ближнему рукопашному бою, ultima ratio римской тактики. Но дистанционный бой, сочетавший обстрел и ручное метание с периодическими массированными атаками конницы и пехоты, приобретая комплексно-этапный характер, лишил римлян их традиционного преимущества в маневре и способности к бою на различных дистанциях.
Так был преодолен "запас прочности" жесткой когортальной системы и стойкости легионера-наемника, чей солдатский профессионализм уступил перед живучестью и универсальной приспособленностью "варвара".
Приобретение черт "степняка" и степного комплекса вооружения было основным содержанием развития военной культуры древних славян эпохи Великого переселения народов, и начало ему было положено еще в эпоху "державы Германариха". Сарматско-германско-славянский сплав готского войска не только сокрушил Рим, используя, правда, и сугубо римские достижения в военном деле, приобретенные в IV - V вв., но оказал огромное влияние на этнические и военно-культурные процессы Западной и Северной Европы. При этом, однако, именно в Восточной Европе были заложены основы его воинской мощи и воинских традиций.
Сопряжение тяжелой конницы - катафрактов - с кельтскими клановыми дружинами и римским всадничеством положило начало западноевропейской рыцарской культуре еще в легендарные времена V - VI вв. Влияние митрианства и его иранских прототипов, сохранявшихся в Причерноморье вплоть до монгольского нашествия, сказалось на формировании германского воинского культа, мифах об Одине и Валгалле.
К той же традиции восходят и атрибуты внешнего облика представителей воинского сословия, заимствованные у митраистов и зороастрийцев и политеистами, и мусульманами, и христианами: отложенный влево чуб-"оселедец", обычно при бритой голове, и вислые усы. (Нужно ли говорить - ох, кажется, нужно! - что речь тут идет не о прямом этническом наследовании и даже не о прямой передаче культурной традиции. Знаменитые прически запорожцев восходят к чубу и усам князя Святослава не напрямую, однако действительно наследуют давней традиции, растворившейся в воинском быте многих народов...)
В области военного снаряжения многие изменения диктовались, безусловно, римлянами и византийцами. Наряду с традиционной подвязкой ножен меча к поясу так называемого кельтского типа распространяется плечевая портупея, первоначально - через левое плечо к правому боку, предназначенная для короткого меча и имевшая защитный клапан на плече и груди (становящийся как бы частью доспеха). Со временем для ношения спаты всадники начинают использовать портупею через правое плечо, сменившуюся в готскую эпоху портупеей набедренной. Появляются исключительно как атрибут военной знати и народного воинского костюма - пластинчатые "золотые" пояса для ношения клинкового оружия, пришедшие на смену бронзовым защитным поясам древности, функции которых переходят к доспеху, либо... к широким кожаным поясам или многослойным кушакам, довольно надежно прикрывавшим живот, особенно в сочетании с засунутыми за них ножнами кинжала или ятагана.
Помимо меча римским наследием был и куполовидный шлем, зачастую охранявший гребень и полки, - такие шлемы знал не только Запад, но и Север Европы в 1-м тыс. н. э. На исходе этого периода распространяются также щиты с поливариантным способом ношения благодаря четырехугольной лямочной рамке и плечевому ремню, наследовавшие черты некоторых разновидностей скутума и других средиземноморских щитов атичного времени. Такие, обычно круглые или миндалевидные, щиты допускали и захват лямок кистью в ближнем бою, и отвесное строевое положение (предплечье вдоль щита кистью вверх), и перпендикулярное к предплечью, для маневренной схватки. Этот перечень можно дополнить использованием плечевого ремня, освобождающего для оружия обе руки и, с той же целью, смещение лямок к локтю.
К XIII - XIV вв., благодаря той же конструкции ремней, распространяется весьма удобное для конного строя ношение щита вдоль предплечья при обращенной вниз кисти. Расположенный таким образом щит прикрывал и всадника, и грудь коня, позволял править им при помощи узды и давал возможность манипуляции щитом - например, удара нижним концом щита по пешему или в грудь коня противника. Для таранного копейного боя такое положение шита не годилось, зато в сабельной рубке было незаменимым. Им был открыт путь еще одному заимствованию, уже не римскому, а итальянскому, через Венецию и Венгрию, - павезе, используемой как легкий "командирский" щит в коннице, в отличие от Западной Европы, где его применяли в пехоте, первоначально как стационарный заслон против лучников, продевая в осевой желоб не руку, а вбитый в землю кол.
(Известный реконструктор облика воинов средневековья художник И. Дзысь, иллюстрируя книгу "Битва на Калке", например, изображает с павезой знатного киевского копейщика-кавалериста; правда, удерживать щит он должен кистью вверх. Такое предположение вполне правомочно, но... не для эпохи битвы при Калке; вот ко временам Куликовской битвы оно еще (вернее, уже) может быть вероятным.) Но при всем значении римского наследия в оборонительном вооружении принципы развития доспеха на заре средневековья диктовались степью. Здесь традиционный пластинчато-нашивной доспех скифских времен дополняется ламеллярным и кольчужным, что при общем прогрессе оружейного дела давало возможность оснащать доспехом большие массы всадников, пригодных и к сомкнутому строю и маневренному бою метательным или иным оружием. Доспех, бывший прерогативой знати, в конце 1-го тыс. до н. э. находит широкое применение в дружинах сарматских катафрактов, а в эпоху "военной демократии" распространяется на большую часть конницы.
Праславяне не пользовались специальным доспехом, благо защитные свойства имела и традиционная воинская одежда.
Уже в античную эпоху атрибутом воина на Севере и Востоке Европы была звериная шкура, чаще всего волчья. Этот факт не свидетельствовал о слабом развития ткачества и вызывался не только потребностью в походной постели и защиты от дождя. Шкура крупного хищника, так же как и бурка в Иране и на Кавказе, могла защитить от излетных стрел или не слишком острого рубящего оружия, каковым до распространения "булатной" стали оно и было. Свидетельствовала она и о социальном статусе воина, подразумевая самоотождествление со зверем-убийцей и добровольное изгойство, вынуждающее сконцентрироваться на личной боеспособности и высвобождающее агрессию.
Воин вручал себя судьбе и богам-прародителям, воплощенным в облике зверя, оборотня: у германцев, согласно Тациту, медведя, а у Геродотовых невров, конных охотников Верхнего Поднепровья, - волка; таким образом, воин принимал на себя ответственность за свою жизнь, освобождаясь от опеки и поруки соплеменников, и отрешался от законов мирной жизни как в социальном, так и в биологическом плане, усиливая сопротивляемость организма любому внешнему воздействию. С наемниками-германцами звериные шкуры появляются и в римской армии, став принадлежностью букелариев-телохранителей из "дружины-свиты" военачальников, специально подготовленных к индивидуальному бою, а поскольку во времена поздней империи именно из них формировался командный состав, то и шкура стала одним из офицерских атрибутов.
Север порождает миф о берсерке - "медвежьей шкуре" или "медведеподобном", неуязвимом воине-оборотне, живущем вне сообщества людей. Впоследствии понятие "берсерк" ("бьерсьерк", "берсеркер") трансформировалось, под ним понимался разбойник, отлученный от церкви еретик, колдун-язычник или владелец магического доспеха. Но факт неуязвимости берсерка для обычного оружия подчеркивался постоянно, так же как и возможность его гибели от заговоренного меча, невоинского оружия - камней и дреколья, например, или в результате "боевых оков" - паралича конечностей, дававшего возможность неприятелям расправиться с берсерком. Последний мог быть реальной угрозой для перенапряженного организма воина, принимавшего одиночный бой с многочисленным противником (чем помимо мастерского ведения поединка славились берсерки); мог этот эффект быть и побочным действием знаменитых эликсиров-стимуляторов, который засвидетельствовали эксперименты с ними в Гетеборгском университете в конце 80-х гг.
Что же касается способов убийства берсерка, то они, как видно, были рассчитаны именно на бойца в шкуре, которого требовалось либо оглушить и переломать ему кости, либо просечь шкуру остро заточенным стальным клинком, для тех времен "нетипичным", исключительным, а тут и до "заговоренности" рукой подать!
Совмещение возможностей режущего (рассекающего) и рубящего воздействия для клинков и топоров, цельнокованных из кричного железа, было невозможно. Только сварной клинок со стальным сердечником, причем образующим также и лезвия, был к нему способен, однако и в этом случае лезвия выкрашивались при парировании или прорубании жесткого материала - кольчуги или кости.
Случалось, что на железный топор или тесак наваривали стальное лезвие. Тем не менее увеличение рассекающих свойств снижало пробойную силу оружия, и приходилось выбирать между силой удара и остротой лезвия.
Показателен случай, описанный Снорри Стурмусоном в "Саге о Магнусе Добром" ("Круг земной"). Королевский дружинник Асмунд, готовясь убить богатыря Харека, получил от конунга-короля для этих целей особую секиру: "Она была клинообразная и увесистая", скорее напоминая топор-колун, поскольку, по мнению короля, собственная секира Асмунда "с широким, остроотточенным лезвием" не смогла бы сразить Харека одним ударом, а второго тот бы не допустил. Асмунд проломил череп своему врагу, но при этом "у секиры обломился весь край лезвия. Тогда конунг сказал:
- Какой был бы толк в тонкой секире. Сдается мне, и эта больше ни на что не годна".
В Скандинавии защитную одежду из шкур применяли на протяжении всего раннего средневековья. Так, убийца Олава Святого, Торир Собака, имел "12 рубашек из оленьих шкур. Эти рубашки были заколдованы, так что никакое оружие не брало их. Они были даже лучше кольчуги" (Снорри Стурмсон. Круг земной). Согласно саге, одна из них спасла Торира в битве при Стикластадире от королевского меча. Одно из последних упоминаний о "сьерках" - "шкурах" - относится к 1190 г. как название одной из группировок, участвовавших в тогдашних норвежских распрях ("Сага о Сверрире").
В большинстве своем викинги вообще не имели привычки к тяжелому доспеху. В битве при Стемфордбридже многие из них предпочли "умереть от оружия врагов, сняв кольчуги, чем от изнеможения, оставшись в них". В целом процесс обеспечения массовым металлическим доспехом на Севере и Западе Европы шел медленнее, чем на Востоке. Упадок городской цивилизации в "темные века" на исходе эпохи Великого переселения (VI-VIII вв.) оставил от нашивного доспеха только кожаную основу, бронировавшуюся по мере возможности. Наряду с кожаными колетами, оплечьями и пелеринами, известными на Руси как "бармы", повсеместно - и на Востоке, и на Западе, и у славян - появляется куртка из многослойного простеганного холста, приобретая позднее мягкую набивку, а иногда и проволочную простежку либо усиление в виде клепочных шайб-бляшек, как у западноевропейских "стрелковых курток".
В качестве легкого доспеха, поддоспешной одежды и даже основы нашивного доспеха стеганки на протяжении всех средних веков были самым распространенным элементом защитного снаряжения, традиционной одеждой ополченцев, особенно на Руси, где облаченное в "тегиляи" войско могло продолжать боевые действия и предпринимать походы в холодное время года, тогда как активность и рыцарей-латников, и кочевников-скотоводов в этот период резко снижалась, сводясь к более или менее активной обороне. Следует добавить, что ворот "тегиляи" (или "тягиляя"), изображаемый обычно в походном положении, в бою мог быть застегнут и образовать лицевое прикрытие на манер забрала, образуя вместе с "бумажной шапкой" (тоже стеганого заменителя шлема) сравнительно дешевые, но достаточно эффективные против рубящего и ударного оружия "латы" полного прикрытия.
(Правда, от укола - в том числе от удара стрелы - такой доспех берег намного хуже, а от копейного тарана - вообще никак...)
Предпочтение, оказываемое в Западной Европе периода "темных веков" кожано-нашивному доспеху перед пластинчатым - римским ламинарным и восточным ламеллярным - диктовалось еще и тем, что именно чешуйчатый доспех или хотя бы пелерина были способны противостоять стрелам сложносоставного лука и тяжелым кавалерийским мечам - римской спате и кочевнической карте. Будучи характерным и для римской, и для степной традиций, такой доспех распространяется у франков и кельто-романцев, вместе с остатками готских племен - "хрейдготами" и их "вельским житом" - золотом Рима проникает на Север, где - золотой век - легендарных V - VI вв. предварил вендельский период, эпоху становления оригинальной северогерманской военной культуры - культуры викингов. Однако это был доспех ездящей пехоты, а воины Поднепровья прекрасно владели техникой верхового боя, где выживание воина обеспечивалось не столько защитным вооружением, сколько его подвижностью.
Приложение этого принципа к пешему бою дало серьезное преимущество скандинавским и славянским дружинам, предпочитавшим индивидуальный бой "стене" и облаченным в сравнительно легкие кольчуги, перед франкской и ромейской пехотой в тяжелых чешуйчатых доспехах (речь идет об элитных частях "палатинов", "спафариев" и прочих, сражавшихся в плотном строю и малоподвижных вне оного).
Со времен Великого переселения и на всем протяжении средних веков конница Восточной и Центральной Европы равно пользовалась и копьем, и луком, в отличие от Запада, где в коннице метательное оружие служило (если не всегда, то как правило) спортивным снарядом рыцарей, дававшим навыки прицеливания при копейном бое[Правда, "неблагородное" (но боеспособное) сопровождение рыцарей широко использовало арбалет именно для стрельбы с коня. Есть эпизодические сведения об использовании "самострела" (арбалета) и, в древнерусской тяжелой коннице в период ее расцвета.]. Каковы бы ни были доминанты военно-политических союзов Леса и Степи, направленных против Восточно-Римской империи, как бы ни складывались взаимоотношения внутри них, но комплекс вооружения всадника был сходным для всех принадлежавших к ним воинов, сражавшихся в конном строю вне зависимости от их происхождения. При этом пехотное вооружение вполне можно считать славянским. Имя "анты", которое в эпоху каганатов носили племена юго-восточного славянского массива, восходит, по-видимому, к тюркскому "аньда", обозначающему усыновление или побратимство, чем емко характеризует положение славянских племен и воинов "под рукой" гуннских и аварских вождей.
Уже во 2 - 1-м тыс. до н. э., в период, когда закладывались основы славянского сообщества, для двух очагов славянства, двух "флангов" славянской прародины, балтийского и днепровского, были характерны серьезные различия в путях исторического развития, в том числе и военной области, - путях "лесовика-помора" и "лесовика-степняка". В итоге в раннем средневековье консолидировались северославянская общность, сложившаяся в лесах балтийского бассейна и отчасти Волго-Окского междуречья, и южнославянская, сложившаяся между Карпатами и Балканами, на берегах Дуная, Днестра и Днепра, в предгорьях и лесостепях.
Синтез их в эпоху Киевской Руси положил начало восточнославянскому сообществу, создавшему единое государство, вооруженные силы и комплекс вооружения, включавший как северные, так и южные черты. Но в докиевский период, как, впрочем, и в постмонгольскую эпоху, военное дело антов-склавинов и венедов-словен, украинского юга и русского севера развивалось самостоятельно, в рамках различных этнокультурных конгломератов: балтийского "Средиземноморья" и европейской степи, центральноевропейского и евразийского этнополитических сообществ. И север, и юг в свое время испытали римско-византийское, германско-скандинавское и немецкое, татаро-монгольское и турецкое влияние, но сказалось оно по-разному: опосредованно или непосредственно, прямым заимствованием, противостоянием альтернатив или параллельным развитием традиции...
Так или иначе, в раннем средневековье и Восточная, и Центральная Европа располагали двумя большими комплексами вооружения, совместно развивающимися под воздействием общеевропейской традиции и достижений Рима, послужившими в XI - XVII вв. формированию локальных комплексов вооружения и военно-культурных традиций Балкан, Прибалтики, Руси, Центральной Европы, Причерноморья и Северного Кавказа. Меч и сабля, топор и чекан, рогатина и пика - вот их основные символы. Среди копий в первые века средневековья все большую популярность завоевывают копья 1,5 - 2 м длиной, используемые и для метания, и для рукопашного боя. Классические дротики раннего железного века - цельнометаллические пилуны или ангоны со значительно удлиненной трубкой, защищающей древко от перерубания, уступают место фрамее - копью с листовидным либо близким к треугольному пером плоскоромбового сечения и сравнительно широкими боковыми лезвиями. Фрамея, восходящая, правда отчасти, к сариссе и предшествующая пехотной пике, предвосхитила также и специализированные разновидности копий, использовавшихся славянским войском в средневековье, - рогатину и сулицу.
Если катафракты (тяжелые всадники) древности действовали копьями типа "контарион" и "контос" (3,5 - 4,5 м) двумя руками, да еще крепя их к груди и крупу коня ременными петлями, то их средневековым потомкам для таранного удара достаточно было зажать копье под мышкой, благо имелась опора - стремя. Стремена также позволяли сходиться вплотную в конной рубке и рубить пехоту. Закладываются и основы "копейной рубки" - нанесение ударов краем пера первоначально, по-видимому, длинного дротика типа фрамеи. Даже спустя тысячелетия, в XVI - XVIII вв., казачьи копья, известные также как "литовские" копья, или сулицы, - их отличал не круглый, а квадратный паз под загвоздку - сохраняют сходную с фрамеей форму наконечника (хотя и несколько более вытянутую, сходную с пикой) и аналогичную манеру боя с сильными маховыми ударами и отбивами пером и древком по обе стороны конского корпуса. Так же действовали и пикой конца XVIII - начала XX в., не уступавшей в распространении другому кавалерийскому оружию и ушедшей в небытие вместе с этим родом войск.
Развитие техники боковых ударов, а не уколов, наконечником копья в европейской коннице связывают обычно с восточными заимствованиями, хотя еще в войске Александра Македонского большую часть конницы составляли "сариссофоры" - всадики, вооруженные пиками с кинжаловидными наконечниками наподобие пехотных, вытесненных в процессе формирования комплекса вооружения катафрактария контосом уже ко времени римско-парфянских войн. Однако в раннем средневековье таранный удар тяжелой пикой с граненым наконечником, в направлении которого развивались копья тяжелой конницы, не мог решать исход боя. Даже тяжеловооруженный всадник был уязвим для стрел и дротиков, а организация войска не позволяла обеспечить его прикрытием до момента атаки. Короче говоря, схватка степной конницы была слишком маневренной для проведения копейной атаки плотным строем: противник попросту уклонялся от нее и засыпал катафрактов стрелами - оружием куда более действенным.
(Особенно если учесть, что раннесредневековый "тяжелый доспех" все же недостаточно защищал всадника и почти никак - его коня. Впрочем, и прикрытия лошади известны, и всадник мог быть защищен частично перекрывающимися "черепицами" пластин, а то и двумя слоями брони - для стрел преграда фактически непреодолимая...)
Несмотря на свою остроту и легкость, копья плоскоромбового сечения в бою со всадником в металлическом доспехе годились куда меньше, чем пики квадратного или ромбического сечения. Те же, в свою очередь, могли служить только в качестве оружия первого удара, не годились для манипулирования в затяжной маневренной схватке больших кавалерийских масс. Так возникли условия для появления граненой пики с режущей кромкой.
(Тут уместно вспомнить мнение известного военного историка Г. Дельбрюка, основывающееся на военно-медицинских сведениях, полученных от непосредственных участников сражений XIX в. Согласно этому мнению общевойсковая европейская пика (в отличие от тяжелого "рыцарского" копья) на уколе не очень эффективно поражает даже бездоспешного противника, "раздвигая" (а не пронзая) мышцы и останавливаясь при попадании в кость[Проведенный авторами анализ описаний ран, нанесенных подобным оружием, по российским источникам XIX в., согласуется с этим мнением.]. Тут и могла помочь "копейная рубка"...)
Граненые копья с долами - выборками и заточенными ребрами имели три основные разновидности, создававшиеся в различных условиях и различных целях, но имеющие общее, восточноевропейское происхождение. Речь идет о ланцетовидном копье, вошедшем в богатый и разнообразный арсенал викингов, в первую очередь - балтийских варягов, о кавалерийской мадьярской пике, получившей уже в новое время название уланской, казачьей или, благодаря матерчатому прапорцу, "хоронжевки", и, наконец, о русской рогатине. Все они заслуживают отдельного внимания.
"Наконечник копья был длиною в два локтя и сверху у него было четырехгранное острие. Верхняя часть наконечника была широкой, а втулка - длинная и толстая. Древко было такой длины, что стоя можно было достать до втулки. Оно было очень толстое и окованное железом. Железный шип скреплял втулку с древком. Такие копья назывались "кол в броне" (Исландские саги. М., 1956). Герой одноименной саги Эгиль Склагримсон и колол, и рубил таким копьем двумя руками, забросив щит за спину, а в щитоносном строю использовал, очевидно, как обычное колющее оружие. Расширенное в отличие от классического листовидного копья острие несколько напоминало булаву-пернач, что придавало ему большую прочность и силу при ударе, требуя соответственно усиления втулки.
Помимо тяжелых копий среди ланцетовидных были и сулицы, за ними и осталось будущее, когда "кол в броне" был вытеснен глефами, алебардами и другим колюще-режущим оружием. Кстати, викинги, владея достаточно мощным луком, при этом всячески жаловали ручное метание копий, топоров и камней. "Обмен" метательными снарядами был традиционной формой корабельного боя, а топор, заброшенный на частокол, служил для его преодоления. Чтобы брошенное во врага копье не "вернулось", викинги иногда вытаскивали перед броском шип-загвоздку, что, однако, могло и испортить бросок ("Сага о Греттире"). В критической ситуации, скажем, освобождая руки, метали даже мечи и секиры на длинном древке.
"Кол в броне" (и другие копья, допускающие нанесение рубящих ударов) служил эффективным замещением пики с коротким граненым навершиемили широким ножевидным пером. Такое оружие изредка попадало на русский Север с ветеранами наемных варяжских дружин и считалось достаточно экзотическим. Шире были известны франкские копья с клиновидным пером и перехватом либо крюками под ним. Они легче вонзались (что потребовало ограничителя) - наверняка пробивали кольчугу и позволяли удлинить древко при небольшой массе наконечника.
На смену "колу в броне" приходит рогатина - традиционнейшее штанговое оружие Северной Руси, где, как и в других регионах североевропейской раннесредневековой цивилизации, бытовали ланцетовидные копья. Основание пера фактически образовало вогнутую чашку, верхняя его часть вытянулась, лезвия спрямились - все это улучшило проникающие свойства и надежность оружия. В XI - XVII вв. в популярности рогатине не уступал разве что топор; ее наличие удовлетворяло потребности в колюще-ударном оружии, что объясняет отсутствие на Руси всякого рода моргенштернов, годендаков и "бернских молотов", столь популярных в Центральной Европе (их преимущество сказывалось лишь против более мощного доспеха, чем был типичен для Руси). Рогатина оказалась лучшим оружием нашего копейного боя на ближней дистанции, непосредственной предшественницей штыка, так как в отличие от прочих копий средней длины была изначально двуручным оружием. Вес рогатины позволял отбивать ею как шестом вражеские удары, а лезвия при маховых движениях угрожали неприятелю не меньше, чем прямой укол острием. Металлический доспех типа кольчуги обычно защищал от укола рогатиной, но не от силы ее удара, отбить который также было сложнее, чем укол длинного копья, более слабый и наносимый с большей дистанции (но справедливости ради добавим: легче, чем удар западноевропейской алебарды, более пригодной для боя с хорошо владеющим оружием латником). Единственным тактическим ограничением применения рогатины было использование ее против конницы, и то лишь в случае бронирования коней, опять-таки для Руси мало характерного; но ведь русские воины не только на Руси воевали...
Только с зарождением регулярной военной доктрины простонародная рогатина изгоняется из военных арсеналов, уступая место пехотной пике, вскоре тоже уступившей место штыку. Но это уже - период заката могущества холодного оружия, хотя отнюдь не финал его истории...
Простейшая модель пики - полый рог, насаженный на древко, и в этом прослеживается ее, по крайней мере, этимологическая близость к рогатине и "колу в броне". Кстати, происхождение термина "рогатина" можно возвести и к рогообразному, массивному и широкому перу, и к "рогам" (стопорам-перехватам охотничьих рогатин, мешавших зверю "нанизаться" на древко копья и достать охотника). Сержантский эспонтон XVIII в., имевший перо кинжаловидной - в его боевых модификациях - формы, напоминающее увеличенный наконечник солдатской пики, в качестве обязательного атрибута имел такой перехват. Приближался он к рогатине и по габаритам, и по функции, да и по происхождению, восходя к европейским типам аналогичных копий.
Ударами эспонтона, ныне атрибутируемого как сугубо парадное оружие, что едва ли справедливо для всех случаев, сержанты расчищали путь линейной пехоте и защищали ее во время перезарядки мушкетов, играя, таким образом, роль пикинеров XVI - XVII вв. Возможным было использование эспонтона и как офицерского протазана (и даже... мушкета с примкнутым штыком!), в паре со шпагой для одиночного боя с несколькими противниками, - манера, восходящая к пикинерам, фиксировавшим левой рукой и стопой 4 - 5-метровую пику, а правой державшим на изготовку клинок.
Впрочем, техника совмещения колющих ударов копьем и рубящих ударов мечом была широко известна еще в раннем средневековье и упоминается чаще, чем бой двумя клинками - манера уже позднесредневековья. Но вернемся к генезису пики.
Собственно, пикой именуют всякое длинное копье, от 2,5 м и более, применяемое в коннице или пехоте - в последней исключительно как двуручное оружие. Формирование основных типов пик растянулось в Европе и на Ближнем Востоке на все средние века, однако уже в раннем средневековье было очевидно, что западные пики - рыцарские копья - будут относительно ближе к контариону катафрактов, а на Востоке - к македонской сариссе, как, например, персидская пика с кинжаловидным пером и казачьи копья XVI - XVIII вв. Причина очевидна - элитарый характер и бронирование конницы на Западе и массовость, предпочтительность легкого вооружения всадника Востока, где, в частности, кожаный или стеганый "ярык" преобладал над металлическим конским доспехом даже в элитных комплексах.
Что же касается Центральной и Восточной Европы, то здесь пика приобретает своеобразную, но характерную для региона форму острореберного шестигранника. Мадьярская пика, выдержав конкуренцию листовидных копий, а также широко использовавшихся конницей Руси вплоть до XVII в. ланцетовидных копий с укороченным на манер пики навершием, в новое время утвердилась в качестве ведущего штангового оружия европейской кавалерии.
Глубокая трубчатая втулка и небольшое массивное навершие делало пику пригодной для таранного удара (если что и затрудняло его, то не тип оружия, а порой "высокая" посадка кавалериста), выборки на гранях позволяли острить ребра, усиливая поражающие возможности и извлекаемость пики, сохраняя ее в руках воина после первой стычки "суима", что в условиях маневренности степного боя было немаловажным преимуществом. Пики, использовавшиеся легкой конницей, в том числе казачьи XVIII - XIX вв., имели радикально заостренное при схождении ребер острие, с легкостью пронзавшее кольчугу или даже пластинчатый доспех, но малоэффективное против цельнокованых лат, впрочем в Восточной Европе практически не использовавшихся (кроме Польши). В XVI - XVII вв. на Руси навершие пики достигало габаритов пера рогатины, свидетельствуя о ее пригодности для боковых ударов при "копейной рубке". Пика с выборчатыми гранями была одновременно и массивной благодаря форме, близкой к пирамидальной, и плавному переходу от навершия к втулке, и легкой благодаря долам, что делало ее универсальным кавалерийским оружием, пригодным для боя с любым противником. Сочетание кинжалообразного профиля с многогранным сечением навершия, так же как и черенковый способ крепления, существовавший у собственно мадьярской, раннесредневековой пики, сближал ее с бронебойными образцами стрел и даже клинков: стилетов, кончаров, панцерштекеров.
Черенок, хоть и не самое надежное средство крепления, способствовал точному совмещению оси древка и пера, обеспечивая точность укола. Втулка, играющая роль дополняющего черенок хомута, окончательно вытесняет его под влиянием рыцарских копий в позднее средневековье. Штанговое оружие с черенково-втульчатым креплением не исчерпывалось пиками, включая также ножевидные восточные пальмы и аналогичные им европейские глефы, известные у западных славян как "судлицы". И пальму, и глефу успешно использовали всадники (нелишне напомнить, что термин "глефа" часто использовался наряду с "копьем" для обозначения тактической единицы, а в состав рыцарских "копий" XIV - XV вв. входили кутилье - конные кнехты в тяжелом вооружении, в состав которого включалась и глефа).
Легкое ножевидное перо со сравнительно широким "рулевым" обухом, переходящим в черенок, позволяло колоть и рассекать, не опасаясь смещения черенка, надежно зафиксированного втулкой-хомутом, имевшим также благодаря нескольким обоймицам или металлическим полосам вдоль древка и защитную функцию. Древко любого колюще-рубящего оружия должно было быть защищено металлом. И глефа, и пальма обычно комбинировались с одним-двумя баграми - фокрами или "оцепами", расположенными в основании или на спинке пера.
Русь не испытывала заметной потребности в этом оружии, благо оно представляло из себя фактически асимметричную рогатину, а боевые багры применялись и самостоятельно - в пехоте, и в комбинации с копьем - в коннице. Впрочем, тоже не слишком часто. Без латного доспеха, современником которого была западноевропейская глефа, всадника легче было убить, чем стащить с седла, для чего багры и предназначались.
Аналогичным глефе самодельным оружием были боевые косы, насаживавшиеся на древки и отвесно, и традиционным способом. Наследуя традиции многошереножной шпалеры позднего средневековья, сочетавшей щитоносцев, алебардщиков и пикинеров, вооруженная косами пехота - "косанеры", как именовали их в войске Костюшко, - поражала ими и кавалеристов, и коней (в ноги и грудь), задействуя одновременно не менее трех шеренг бойцов. Таким же образом, хоть и менее организованно, бились косами участники многочисленных крестьянских восстаний и войн XV - XVIII вв. в Чехии, Венгрии и Польско-Литовских владениях, где глефа широко была распространена в качестве оружия ополченцев и развила навыки боя колюще-рубящим оружием.
Если глефа имела сходство с косой, то совна или вуж более напоминали сабельный или тесачный клинок, в результате чего нагрузка на черен увеличивалась. Если черен глефы и пальмы практически покрывался втулкой, то у совны и вужа он глубоко заходил в древко, повышая роль обоймиц-хомутов и в целом оковки. Превосходя перо глефы по длине и ширине, полоса совны была уже в обухе. Одним отличием совны от глефы была елмань, у острия полосы вместо багра в основании обуха. В Западной Европе аналогии клинков и вужей подчеркивались даже терминологически - понятие "фальшион" подразумевало оружие с эфесом, на коротком или на длинном древке. Восточное происхождение штанговых клинков очевидно, так же как и их большая предпочтительность для пешего боя в отличие от более легкой глефы. Техника двуручного боя с седла для Европы достаточно нехарактерна.
К вужам относят также оружие с вытянутой и, очевидно, загнутой на конце полосой, крепящейся тоже при помощи хомутов, но не в продолжение, а вдоль древка. Здесь мы видим явную параллель с китайской секирой "дао", для которой характерны оба способа крепления. Первый удлиняет оружие, второй компенсирует отсутствие направляющего удар широкого обуха, роль которого играет древко. Однако европейская традиция относит такое оружие все же к классу алебард, в котором крепление при помощи обушных хомутов представлено итальянской "алебардой трабантов" и старейшим типом алебард - "швабо-швейцарским".
Если совны в послемонгольское время на Руси прижились "по соседству" с рогатиной, то "двуобушные" алебарды полностью заменял бердыш, имевший вместо нижнего хомута косицу. Смешение обушного и клинкового штангового оружия, происходившее на Западе в позднем средневековье, на Руси исключалось принципиальным различием в роли и значении мечей и сабель, с одной стороны, и боевых топоров - с другой.
Начиная с эпохи Великого переселения народов не только у славян, но и практически во всей Европе в ближнем бою пехоты основная роль отводилась топору. При сравнительно низком уровне металлообработки, когда производство стали на основе крицы было явлением исключительным, оружие с локальной рабочей частью и значительной массой было дешевле и выигрышнее клинкового: длинное древко позволяло держать противника на дистанции, недоступной римскому мечу, а в случае ее разрыва либо сокращения воин освобождал руки для клинка или лука, меча топор в неприятеля. Отсюда и популярность топоров как метательного оружия, и пресловутая последовательность франкского рукопашного боя: "метали копья, бросали топоры и, сойдясь, бились мечами".
Франциска (она же, в другой транскрипции, "франкиста" - оружие франков!) - узколезвийный трапециевидный топор с опущенным обухом и слегка скошенным лезвием - действительно удобна как для рукопашного боя, так и для метания. Применялась она и пехотой, и всадниками.
Метание топора - или даже нескольких поочередно (а викинги, похоже, иногда ухитрялись метнуть две секиры одновременно, обеими руками!) - давало возможность непосредственно прорваться в ближний бой, в котором преимущество было за мечами. А ведь именно Нижний Рейн, прародина франков, на протяжении всего раннего средневековья был главной оружейной мастерской Европы и центром производства "франкских" мечей - недостатка в них не было. Для атакующей манеры боя завоевателей-франков такой порядок применения оружия был равно удобен против последователей как римской, так и варварской тактической школ.
Будучи более громоздким, чем меч, топор был в ту эпоху более универсален, пригоден на различной дистанции боя, в то время как меч был удобен только в ближней рукопашной схватке. Секироносец в рукопашной мог потерять оружие, если противник захватывал древко рукой, что подтверждалось особым способом удержания топора: "широким хватом" - за рукоять (нижнюю часть древка) и под шейку рабочей части, а возможно, и одной рукой - под шейку, используя древко как палицу "обратным хватом" и предохраняя его от захвата.
"Бронебойность" топора в тех условиях была исключительной благодаря инерции рубящего удара, усиленного за счет массы топора, отвесу - т. е. удалению центра тяжести оружия от руки и вынесению его за ось древка, к лезвию, а также эффекту рычагов, образуемых рукой, древком и лопастью. У топоров раннего средневековья, как, например, у франциски, ось обушной проушины проходила не под прямым, а под острым углом к осевой линии лопасти, что, особенно при скошенном и обращенном вниз лезвии, обеспечивало вынос центра тяжести за плоскость лопасти, вперед и вниз, по направлению нанесения удара, а в сочетании с коленчатым изгибом древка дополнительно улучшало управляемость оружия. В позднем средневековье, во времена секир и чеканов со сложнофигурной лопастью, размещение центра тяжести перед лезвием достигалось благодаря ее конфигурации, а совмещение плоскости лопасти с направлением удара обеспечивалось за счет соотношения массы лопасти и обуха.
Топор, разумеется, не мог служить "продолжением руки", как клинок или копье, работа с ним требовала иной последовательности задействования суставов и плечевых замахов; техника парирования топором своеобразна и при действии одной рукой ограничена, но даже это способствовало распространению топора как народного оружия: здесь не было нужды в виртуозном фехтовании, а достаточно силы, выносливости и привычки к оружию.
В первые века нашей эры начинают доминировать топоры с трапециевидной лопастью, тогда как в древности преобладали луновидные лопасти, наследовавшие бронзовые образцы. В средние века лезвие топоров никогда полностью не спрямлялось, но ширина его варьировала в зависимости от тактических задач. Обычно удар даже небольшого топора выводил пораженного из строя, вызывая шок и контузию, даже если сама рана не была опасной; а ранение широколезвийным топором - предшественником секиры - было в большинстве случаев смертельным...
Всаднику в условиях маневренного боя принципиально важно было обзавестись двуострым оружием - не случайно именно меч стал в Европе атрибутом воинского сословия. Восточноевропейским степнякам, вооруженным однолезвийными клинками, "двуострым" оружием служили боевые топоры с молотком - чеканом на обухе. Топор с узкой вытянутой лопастью использовался как едва ли не основное оружие верхового рукопашного боя в раннем железном веке, преобладая над кавалерийскими клинками - махайрой и картой.
В средние века в связи с широким распространением металлического защитного вооружения появилась необходимость не только "достать" противника, но и пробить его доспех либо оглушить обухом. Лезвие топора еще более вытягивается и сужается, обух оснащается мощным молотком, а втулка приобретает кольцевидную форму, характерную для боевых молотов-чеканов, сохранив, правда, выступы с боков обуха ("щекавицы"), свойственные топорам - рубящему оружию.
В комплекс вооружения степного всадника VIII - X вв. входит и клинок, предназначенный для конной рубки, и топор, используемый теперь скорее против тяжелой пехоты, чем против всадников. У рядовых воинов это были сабля и топорокчекан, а у знатных обладателей тяжелого доспеха, сражавшихся с "себе подобными", - палаш и секира-чекан. Луновидные и Т-образные секиры, способные к рубяще-дробящему - благодаря массе и ширине - и рассекающему - благодаря форме лезвия - действию были характерны для знати аланских племен, обитавших на Северном Кавказе и Восточной Украине. Изображения мечей, палашей и Т-образных секир с выраженным чеканом на длинном древке часто встречаются среди кавказских петроглифов, посвященных сюжетам Нартского эпического цикла древних алан.
Чернигово-Северские земли, находившиеся в постоянном контакте с аланами-"ясами", были знакомы и с их оружием.
К черниговским и киевским древностям относится несколько классических образцов раннесредневековых секир-чеканов, ошибочно считающихся "славянским топором". Развитые щекавицы, усиленный в верхней части обух и чекан либо суженный клевец свидетельствуют о предназначении этого оружия для боя с коня. Оттянутый вниз обух и развитые нижние щекавицы более характерны для пехотных топоров, в частности североевропейских.
Скандинавское происхождение имеет еще одна разновидность секиры, сугубо европейская, получившая название датской или лохамберской - от залива Эмбер, где располагалась крупнейшая колония викингов в Британии, и восходящая к широколезвийному трапециевидному топору. Такие топоры, как и секиры, отличались тем, что длина лопасти не превосходила длину лезвия, а иногда и уступала ей. Лопасть северного топора в длину и ширину достигала 22 - 25 см, в то время как боевой топор или небольшая секира всадника не превышали 12 - 15 см (без учета обуха). Широкое лезвие не только усиливало удар, но и расширяло рану, усугубляя поражение и облегчая высвобождение оружия, что для топоров вообще было серьезной проблемой.
Широкая лопасть позволяла варьировать ее конфигурацию - усилить и заострить верхний торец или вырезом от нижнего торца образовать бородку. Секира с развитой верхней частью лопасти могла, разрубив средней, наиболее мощной частью лезвия щит, одновременно поразить противника в лицо или грудь, как, например, "Великанша Битвы", служившая героям "Саги о Ньяле". Прямой удар - тычок верхним торцом лопасти, наносимый от груди двумя руками, теперь не только отбрасывал противника, позволяя замахнуться, но и "накалывал" его, предваряя сметающий удар лезвием. Скругление лезвия секиры приводит в XIII в. к приобретению "лоханбером" луновидной формы, одновременно заимствовавшейся в ходе крестовых походов у секир Востока.
Бородка, значительно облегчая секиру, позволяла свободно действовать ею одной рукой и придать лезвию более радикальный изгиб, обеспечив рассекающий эффект. За несколько столетий викингских походов бородковидная секира стала самым распространенным типом боевого топора в Европе. На Украине широколезвийные и бородковидные топоры (у последних еще недостаточно скруглено лезвие, уступающее длиной лопасти, чтобы именовать их секирами) распространяются в XI в. с новгородскими ратниками Ярослава и викингами Якуна "Златой Посуды" - последней варяжской группировкой, игравшей заметную роль в киевских делах.
Бородкой оснащались и секиры, у которых на нее приходилось не менее половины лезвия, и собственно топоры, которым бородка удлиняла лезвие до 1/3 длины или усиливала вытянутый нижний торец, который мог служить зашитой левой руки или для парирования, а также обеспечивать отвес.
В отечественной литературе двуручная секира с приспособленным для укола верхним торцом традиционно именуется бердышом по аналогии с московскими бердышами XVI - XVII вв. Однако характернейшая его черта (соединение нижнего торца лопасти с древком "косицей") была сугубо восточной традицией, существовавшей еще в древности, а в средние века в Европе помимо Руси только на Балканах и - в единичных экземплярах - на Севере. Секира с косицей "вписывалась" в традицию лохамберских секир, но вытеснение народного ополчения-ледунга наемничеством, преимущественно немецким, обеспечило господство швабо-швейцарских алебард, аналогичных по тактической функции, но со втулкой-хомутом вместо косицы.
Сам термин "бердыш" восходит не к луновидным, как московский бердыш, секирам, а к bartaxe - бородковидному топору или секире. В Речи Посполитой бердышом называли широколезвийный саперный топор с небольшой бородкой. В казацкой традиции бердыш ассоциировался с народным орудием "сердюков" или атаманцев, гетманских телохранителей, восходя к "посольскому" топору или луновидным секирам турок.
Чешские "ходы" - пограничники Шумавского леса, горцы Карпат и Трансильвании носили "батки" - они же балты или валашки, они же "гуцульские топоры" - топорики-посохи, представлявшие собой видоизменившийся под влиянием топорка-чекана степной конницы лесорубный топор с бородкой не более 1/4 лезвия. Длинное древко и вытянутая лопасть позволяли лишенному защитного вооружения бойцу держать подобного себе противника на удалении и гарантированно вывести его из строя одним точным попаданием, достаточно мощным при большой дуге удара и концентрирующей его силу мощной и узкой лопасти.
Батка стала популярнейшим "костоломным" оружием западных славян и украинцев-гуцулов, а чекан, как и сабля, был атрибутом шляхтича, заменяя ему в XV - XVII вв. трость. Сохранив мощный кольцевидный обух, чекан приобрел небольшую лопасть с секирообразной конфигурацией и заточкой лезвия, а расширявшийся в сторону рабочей плоскости молоток сменился сужающимся к концу клевцом.
(Двуручные западноевропейские боевые молоты XIV - XV вв. больше склонялись не к топору, а к палице - их пирамидальные или конусовидные парные бойки напоминали гипертрофированные шишки или даже целые навершия булав.)
На заре средневековья топор и копье серьезно потеснили палицу - дубину и шест, но в коннице она сохранилась и приобрела символическое значение, став, как и чекан, оружием тяжеловооруженных вождей, а затем и их атрибутом. Латный всадник мог позволить себе игнорировать вражеские удары и бить с широкого замаха, а палица требует именно такого замаха либо непрерывного вращения и не предназачена для парирования - только для отбрасывания или выбивания оружия врага. Будучи самым архаичным холодным оружием, булавы Восточной и Центральной Европы - буздыханы и брусы, иначе "киевские" булавы, отличавшиеся формой и расположением шишек, - вплоть до нового времени изготовлялись, как и тысячелетия назад, преимущественно из бронзы.
Кистень же в отличие от булавы считался простонародным видом оружия. Ему, как никакому другому, было свойственно различие между "степными" и "лесными" типами. Если первый тип был с гирькой, служа едва ли не популярнейшим оружием ближнего боя легкой конницы VIII - XII вв., а в казацкие времена сменившись обычной свинчатой нагайкой, немногим менее эффективной, то к северу от Оки кистень скорее напоминал цеп. Это конечно же не был "кропач" гуситов и стражи центральноевропейских городов XV - XVII вв., но, как и у цепа, у русского кистеня крепление гирьки к рукояти осуществлялось промежуточной скобой, обычно в виде восьмерки, а если ремнем, то широким и коротким. Воинским оружием такой кистень в отличие от бича или небольшого цепного "моргенштерна", бытовавших в поместной коннице, не был. Предназначался он для первого, внезапного удара, практически неотразимого и сразу выводящего противника из строя, и при малых габаритах мог легко быть спрятан. Потому кистень и стал символом разбоя, которым на Руси не брезговали и скоморохи-жонглеры, и акробаты, способные с кистенем в руках выдержать даже длительную схватку с несколькими неприятелями.
Скоморох - отнюдь не просто шут и не песняр-сказитель; это - "романтик с большой дороги", принимающий все условия подобного существования.
Правда, подобная публика (как и городской плебс) зачастую именно для компактности, потаенности применяла другой тип кистеней - иногда даже парных! - маленькую гирьку на ремне без рукояти, диктующую иной тип боя.
Как и ударное оружие, клинки у славян изначально принадлежали к комплексу вооружения всадника. В эпоху становления славянства всадники - и мечники - служили привнесению в древнеславянскую воинскую культуру заимствований, в том числе и от тех традиций, что давно и прочно уже вернулись на земли славян.
"Цивилизация меча" началась в Восточной Европе в скифскую эпоху, с VII в. до н. э. Прямой меч-кинжал акинак служил не только оружием рукопашного боя, но и непременным элементом военного костюма, атрибутом мужчины-воина и религиозным символом. В эпоху сарматского господства в Причерноморье - II в. до н. э. - II в. н. э. - акинак окончательно уступает место карте - длинному, до 1 м, мечу, уступает в буквальном смысле, поскольку и тот и другой носились у пояса справа, при помощи массивной лопасти, одновременно защищавшей живот. Сарматский акинак крепился к правому бедру, позднее сместившись на голень и предвосхитив засапожный нож. Правосторонняя подвеска меча была удобна и всаднику, и пешему щитоносцу - последнему, разумеется, при коротком клинке, обнажая который не нужно было отводить щит; но у позднеримской, точнее, готской, византийской, кельтороманской пехоты гладиус (50 - 70 см) сменился семиспатой, или спатионом (30 - 40 см), а с левой стороны воин стал носить спату, массивный и длинный меч (75 - 95 см), приспособленный к конной и пешей рубке, а не к сочетанию вспарывающих и рассекающих ударов с уколами, как мечи античной эпохи. До появления спаты меч, особенно длиннее 70 см, для рубки применяли неохотно.
Преобладали удары с короткого замаха ближней к острию половиной или третью клинка. Неудивительно, что кавалерийские клинки исполнялись на манер шпаг, а пехотные своими усиленными концами часто напоминали расплющенную железную палицу. Развеска (баланс) таких клинков не являлась принципиально важной, а основание их было хрупким и легкоуязвимым, отчего и эфес не был массивен, а гарда немногим отличалась от ножевого упора. Спата весом свыше 700 г уже была хорошо сбалансирована при помощи навершия, имела функциональную крестовидную гарду и двуострый клинок с обычно скругленным острием.
Предназаченный для рубки меч не должен был глубоко проникать в мишень при уколе, подвергаясь опасности застрять и даже сломаться, но должен был обеспечивать режуще-рассекающее воздействие при тычке острием клинка. Качество стали позволяло уже предотвратить излом в средней части клинка, но парировали удары мечом все же неохотно, тем более не подвергая угрозе основание клинка и эфес. Спата послужила образцом и основой для последующего развития европейского прямого меча, а на Балканах она сохранилась вплоть до турецкого завоевания и получила название "славянского меча". Иранская оружейная школа, породившая акинак и карту, создает параллельно спате "сасанидский" тип меча, подобно своим предшественникам напоминающий увеличенный до размеров меча кинжал, вернее, кавказский кинжал "кама" стал его уменьшенной копией и своеобразным "акинаком" позднего средневековья и нового времени. Этот меч имел выраженное и плавно суженное острие и массивное тулово с широкими лезвиями. В нем проявилась одна из особенностей восточных мечей - предпочтение проникающего укола тычковому удару и одновременно сочетание рубящего удара с секущим - глубокое проникновение оружия в мишень с радикальным использованием секущего воздействия при его извлечении. Причину этого мы видим в своеобразии защитного вооружения Востока - "законодателя мод" стеганого нашивного доспеха на протяжении всей древней и средневековой истории. Но более всего - в качестве стали. История средних веков началась и завершилась революциями в металлообработке. К середине 1 -го тыс. мастера Ирана и Сирии добились успеха в копировании центральноазиатских сталей "шам" и "вуц", получив "булат" и "Дамаск" (что отнюдь не синонимы), а в XVI в. распространение "мануфактурного" стального литья на основе чугуна положило конец эре меча в оружейном деле. Но если европейский Ренессанс породил шпагу и ее производные - рапиру и палаш европейского образца, то оружием раннесредневекового Востока стала сабля.
Изогнутый широколезвийный клинок был широко распространен уже в древности, так как давал серьезные преимущества, в первую очередь в бою всадников. При несовершенстве верховой езды (до македонских войн - без шпор, до гуннского нашествия - без стремян) и уязвимости клинков при рубке всадники должны были держаться друг от друга не ближе 1 и, кружа вокруг противника и стараясь достать его копьем-дротиком (вспомним "литовскую сулицу", соперничавшую в ближнем бою с рыцарской пикой), булавой и топором (из-за дистанции не опасаясь за уязвимость древка) или концом клинка. При значительной дуге удара изогнутый на конце клинок бил с большой силой и плавно рассекал мишень, не испытывая значительного сопротивления и предотвращая угрозу утраты оружия.
Естественно, что при этом использование вогнутого и легкого клинка - сабли - было выгоднее, чем тяжелого и вогнутого - махайры. Булатный клинок как трехгранный, так и линзовидный, подобно мечу, в сечении был достаточно прочен, чтобы нанести сильный удар в точке изгиба, находившейся обычно в ближней к острию части средней трети полосы - или на границе средней и последней трети. По мощи удара он немногим уступал удару секиры (как удар нижней третью клинка ятагана или махайры, при котором верхняя часть клинка играла роль древка).
Острие, усиленное, как и у совны, елманью - перьевидным выступом на обухе со встречной, к острию, заточкой, - рассекало мишень на всю свою длину, свободно выходя из раны. Таким образом, "пробой защиты" (металла доспеха и сопротивления костно-мышечных тканей) и "нанесение раны" (рассечение основы доспеха и мягких тканей) производились раздельно и с одинаковым эффектом. Ел-мань не только делала острие широким, массивным и двуострым, пригодным для укола, - для этого достаточно было расточки острия в четырехгранник, что и имело место у сабель VII - XI вв. и позднее, у персидского "шамшира" было доведено до совершенства. Елмань служила своеобразным рулем, направляющим движение клинка, так же как у топора обух и лопасть последовательно направляли и стабилизировали положение лезвия при ударе. Для мощных двуострых клинков с линзовидным сечением это не характерно, и их приходится постоянно направлять кистью, чтобы удар не пришелся плашмя.
Елмань способствовала и обеспечению развески с отвесом - смещению центра тяжести к лезвию в точке изгиба клинка. Добавим все же, что для первых образцов древнерусских сабель елмань не характерна...
Наконец, сабельный клинок был более мобилен, легко обходил защиты благодаря легкости, кривизне и отвесу; возможной, как впоследствии и у шпаги, становилась "доводка" отпарированного удара - разворотом плоскости клинка и "выигрышем" центра тяжести, а также использованием изогнутой части клинка для укола или удара елманью. По тем же причинам сабля в определенном смысле более приспособлена к парированию, чем меч, и легче осуществляет переходы от защиты к атаке. Если для меча тех времен предпочтительнее жесткие встречные удары, отбрасывающие оружие противника, то плавные круговые движения сабли обеспечивали надежную защиту, позволяли даже в тесной схватке обойтись без защитного вооружения[Уланская сабля XIX в., восходящая к центральноевропейскому "смычку", а через него к "шамширу" и "ордынке", самая кривая и длинная - в пешем строю ее носили на сгибе левой руки эфесом под локоть, - позволяла "мельницей" отбиться от пик, утратив, правда, пригодность к ближнему бою.]. Последнее обстоятельство, как и большая, чем у традиционного меча, длина, особо способствовали ее популярности у полукочевых племен эпохи Великого переселения народов, да и в последующие века.
(Впрочем, у меча есть свои достоинства, полнее всего проявившиеся в европейских школах фехтования такими его "наследниками", как шпага и двуручные эспадоны. Не будем здесь останавливаться на них.)
От узколезвийных карт, у которых к началу нашей эры уже появляются изогнутые острия, ранние сабли не очень отличались. Однако одновременно с саблей появляется и прямой "трехгранный" (считая одной из "граней" достаточно широкий обух) клинок-палаш. По силе удара и тяжести "разваленных" ран ранние восточные палаши уже не уступали топорам, тяжелым мечам и саблям с развитой елманью вроде турецкой "килидж" или арабской "семитар". Для палаша была обязательной возвратная заточка, обеспечивавшая возможность прямого укола. Извлечение оружия при глубоком проникновении в мишень - а даже в XIX в. палашами в конном строю кололи не реже, чем рубили, особенно в начале схватки, - происходило опять же благодаря способности к режущему воздействию. Палаш был способен прорубать - и рассекать - нашивной доспех, действуя так же, как и сабля, но с силой секиры. Но если саблю для этого приспособила полоса, то палаш - его рукоять.
Характерной особенностью раннесредневековых сабель был слегка изогнутый клинок и практически прямой черен, позднее, особенно в Европе, принявший форму, близкую к S-образной, дававшую возможность прямого укола и больший эффект в использовании изогнутого острия, уже лишенного "руля" - елмани. Палаш, в свою очередь, отличался прямой полосой и череном с резким изгибом непосредственно у пяты клинка, позволявшим давлением пальцев на рукоять использовать всю длину лезвия, рассекающего мишень при возвратном движении оружия. И сабля, и палаш требовали скользящего хвата с наклоном кисти вниз и большим пальцем между средним и указательным, а уже в новое время, вдоль плоскости клинка, с опорой на щиток палаша или кольцо-"полюх" польских сабель. Аналогичный хват был предпочтителен и для топоров, а особенно - секир, причем указательный палец играл роль "поворотной оси" древка-рычага.
Меч же держали отвесно и жестко - кулаком, большой палец поверх указательного (все же уточним: не любой меч и не всегда). К XIX в. в Европе (да и в России) этот хват в "ширпотребовском" варианте употреблялся уже для всякого рубящего оружия, вытеснив все другие из реальной боевой практики в область спортивного фехтования (хват, применяемый для эспадона, с большим пальцем на спинке черена, восходит к скользящему сабельному) или... в область "высшего пилотажа", виртуозного владения оружием, применяемого в бою воинской элитой.
На Севере в эпоху "военной демократии" традиционным оружием также был однолезвийный клинок, но не сабельного, а тесачного типа, развивавший традицию античного франкийского меча. Такие клинки называют саксонскими, однако этот термин обозначает и двуострую шпагу, распространившуюся на севере и востоке Европы в XVII - XVIII вв., противопоставляя ее средиземноморским рапирам и собственным мечам и палашам предыдущей эпохи. Название же раннесредневекового оружия происходит от противопоставления изделий финских мечников и их восточных соседей.
Подразделяют их по габаритам на "длинные" (60 - 80 см), "короткие" (40 - 60 см), "широкие" и т. д. Но наибольшую известность приобрел скрамасакс - однолезвийный, но тем не менее приспособленный для укола клинок с хорошо выраженным лезвием и острием, с довольно острой заточкой, имевший к югу от Балтийского и Северного морей прямую, а к северу - изогнутую на манер ятагана полосу. К северным типам восходят финские ножи и "подсадачники" славянских лучников, к южному - многочисленное семейство средневековых солдатских тесаков, в том числе и кортелан, или кортелес, чье название возводят и к итальянскому "колтеладжио", и к "корду", в названии которого многие исследователи видят славянские корни.
Как символ воинского сословия корд, кортелан, а затем и кортик становятся частью военного костюма незнатных земледельцев - шляхты. Боевые ножи и тесаки, трансформируясь в саблю, приспособленную для пешего боя - с недлинным широким клинком, изогнутым в средней части или, как западноевропейский эспадон XVII - XVIII вв., непосредственно у гарды, что увеличивало недостаточную при малом размахе дугу удара, - дали целый ряд образцов костюмного и боевого оружия народов Центральной и Восточной Европы. "Гадарэ" - турецкий пехотный тесак - трансформировался в польскую "карабелу", которую даже всадники носили преимущественно для спешенного боя, благо к седлу у польского латника крепились справа - кончар, а слева - палаш. Казачьи сабли XVIII в. - периода утраты вольностей и доступа к восточным арсеналам, - также напоминавшие тесаки коротким широким клинком и грубым деревянным эфесом, были предшественниками парадного гвардейского "клыча" времен Александра III и Николая И, да и шашки, заимствованные у черкесов и алан еще во времена суворовской "командирации" на Кубань. Но за тысячу лет до этого Русь еще только формировала основы собственной воинской культуры, вступая на путь "цивилизации меча".
Легенда о киевской дани хазарам - двуострых мечах, - подтверждаемая археологичными данными, ясно свидетельствует об отсутствии мечей в комплексе вооружения воинов Поднепровья в докиевский период, как и о быстром освоении этого оружия в IX в. Эра меча начинается на Руси одновременно с началом активного использования Балтийско-Днепровского пути "из варяг в греки", со становлением дружинного строя - появлением "дружины-братства", военно-торговой и религиозно-политической корпорации, сменившейся впоследствии княжеской, феодальной дружиной. Если в скандинавской традиции последняя именовалась "хирд", то первая "дрет", этимологически связуясь с "Идрет", дар Игга-Одина, что означало "искусство" вообще и воинское в частности, имела фонетическую параллель со славянской "дружиной" и самой "Русью", чьим первым государственным институтом и была дружина. Как и войско "военной демократии", которое "дружина-братство" дополняет, выходя за его рамки, а феодальная дружина вытесняет, заменяя ополчением во главе с дружинниками-"де-сятниками" - "тиунами" на Руси и "танами" Датской Власти в Англии, восходит к соседской общине.
Восточнославянские земли в IX в. заняли ключевое положение в оружейной торговле Востока и Запада. Без булатного "сердечника" рейнские мастера той поры не могли сковать сварной трехслойный клинок - знаменитый каролингский меч, излюбленное оружие молодого рыцарского сословия. Длиной около 1 м, оснащенный долами и массивным бронзовым навершием, служащим основным типологическим признаком при датировке мечей, каролингский меч окончательно преодолел ограниченность тактического использования европейских клинков, сделав их самым популярным и действенным холодным оружием. На Восток каролингские мечи могли попасть только через Финляндию и ее балтийские фактории, минуя перекрытые аварами и веграми торговые пути по Дунайско-Балтийскому водоразделу через Верхнюю Германию и Моравские ворота и обходя капитулярии Каролингов, запрещавшие продавать оружие варварам-язычникам. Заметим, что запрет Карла Великого на вывоз франкских мечей в славянские земли в 805 г., как и захват тогдашней "Владычицы морей" Великой Фрисландии, был открытым вызовом дружинам Севера. Этот вызов был принят, и каролингский меч в руках викинга обратился против Запада.
Клинки "Ульфберта", "Ангельреда", "Леутрита" (первые "фирменные знаки" знаменитых мастерских, очевидно совпадающие с родовым именем клана потомственных мастеров и... своеобразно предвосхищающие тягу к фирменным изделиям типа "адидас" и "панасоник"!) монтировались, перетачивались и перековывались. С установлением контроля над Залозным в Приазовье и Волго-Каспийским путями Русь получила и непосредственный доступ к рынкам булата. Мечи Руси, по свидетельству арабских купцов, в отличие от "шам" и классических "каролингов" отличались развитым острием, способным не только к тычку, но и уколу, - это подтверждают и сообщения "Повести временных лет", описывая битвы и стычки XI в. "Местный" тип каролингского меча позволял действовать им скользящим хватом, как сугубо кавалерийским оружием, используя остроту лезвия и способность к секущему удару.
(Уточним все же: это скорее "варяго-русский" и тип оружия, и стиль боя. Впрочем, он, конечно, не оставался монополией этнических скандинавов.)
Однако Волго-Балтийский регион имел и собственный центр мечевого производства - в Курземе, откуда происходят прославленные "заговоренные" клинки многих героев северных саг. Были среди них и мечи, предназначавшиеся для двуручного хвата, а для облегчения боя одной рукой служил специальный темляк - кольцо, закрепленное в средней части черена. Таков был меч "Ехидна" Эгиля Склагримсона, трофей набега на Курземе; и меч Греттира Асмундсона, добытый из кургана готского берсерка.
Становлением Древнерусского государства, обладавшего постоянными вооруженными силами и принципиально новым, по сравнению с V - VIII вв., комплектом вооружения, обновлением восточнославянской воинской культуры, формированием дружинного сословия - бояр, "мужей", гридней,, гостей и военнообязанного земледельческого сословия - кметей - воинов ("А мои куряне - сведоми кмети..."), возникновением новых традиций и обрядов - подстрига и подстяги, обязательных для всех мужчин, воинов и защитников Руси, открывается новый этап ее военной истории. Пролог развития отечественной воинской культуры был завершен. Русь Изначальная превращалась в Русь Великую.
Публикация данной работы осуществляется в рамках информационного освещения Всероссийского конкурса "Наследие предков - молодым". В текстовом формате работа постоянно размещена на сайте МОСКОВИЯ -
http://moscowia.su/images/konkurs_raboti/2005/konkurs2005.htm