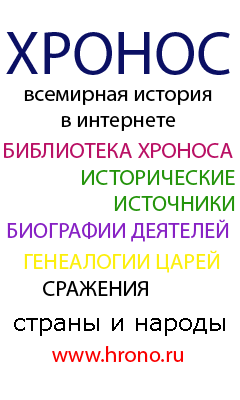Ларичев В.Е. Сушени, мохэ и древние этносы Дальнего Востока
Археологические исследования на территории Дальнего Востока и прилегающих к нему районов Центральной и Восточной Азии свидетельствуют о рано определившемся глубоком культурном и этническом своеобразии древнего населения бассейнов основных речных систем материковой части дальневосточного региона — Ляохэ, Нонни, Сунгари, Ялу, Тумангана, Уссури и Амура. В пределах этих областей располагалась одна из центральных по значению зон формирования могущественного на востоке Азии тунгусо-маньчжурского этнического пласта. Здесь же, главным образом на северных окраинах Дальнего Востока, расселялась часть палеоазиатских народов, история которых наглядно и живо раскрывает важные детали процесса освоения человеком горно-таежной и степной зон севера Восточной Азии, пограничных с Сибирью, и в то же время позволяет представить в какой-то мере сложность и многогранность культурно-этнических процессов в отдаленные эпохи. Было бы наивно, учитывая скудость сведений, оставшихся от тех далеких времен, со всей определенностью судить о своеобразии дальневосточного культурного региона в сравнении с собственно восточно-, центрально- и североазиатской зонами культур древнекаменного века. И все же археологические материалы проливают свет на эту проблему 1. Исследования же, относящиеся к последующим эпохам — неолиту, эпохе бронзы и раннему железному веку, выявляют отчетливо выраженную оригинальность культур Дальнего Востока в сравнении их с соответствующими по времени культурами собственно Китая, в особенности бассейнов Хуанхэ и Янцзы, а также отчасти пустынно-степной зоны Монголии 2.
Начиная с последних веков до новой эры сведения о дальневосточных племенах появляются в письменных источниках, главным образом в официальных летописных хрониках. По этим своего рода «этнографическим наброскам» путешественников, дипломатов и лазутчиков предстают перед нами особенности жизни и быта древних обитателей Дальнего Востока, конкретные эпизоды политической и военной истории в том свете, в каком воспринимали их современники-соседи. Выявляется роль дальневосточных народов в полных драматических коллизий событиях на севере Восточной Азии в древности и эпоху раннего средневековья. Внимательный анализ летописных хроник, в которых содержатся разнообразные сведения о так называемых «восточных иноземцах», со всей очевидностью показывает, сколько здесь еще кроется неиспользованных возможностей для воссоздания прав[1]дивой истории, лишенной невольных искажений, злостных фальсификаций и заранее обдуманных передержек. Установление исторической истины особенно необходимо сейчас, когда в Пекине откровенно стремятся превратить историю в орудие политических спекуляций, в частности для обоснования территориальных притязаний к соседним государствам, в том числе к нашей стране 3. Речь идет, в сущности, о разоблачении одного из вариантов давней китаецентристской идеи, полной презрения к миру так называемых «варваров» и «иноземцев», которым официальные предста-
______
1. Ларичев В. Е. Палеолит Маньчжурии, Внутренней Монголии и Восточного Туркестана.—В кн.: Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности. Эпоха палеолита. Новосибирск, 1976; Он же. Палеолит Кореи.— Там же; Он же. Палеолит и мезолит Японии. — В кн.: Сибирь и ее соседи в древности. Вып. 3. Древняя Сибирь. Новосибирск, 1970.
2. Ларичев В. Е. Неолит Дунбэя и его связи с куль[1]турами Северо-Восточной Азии.—В кн.: Археологический сборник, т. 1. Улан-Удэ, 1959; Он же. Древние культуры Северного Китая.—«Труды Отдела истории, археологии и этнографии Дальневосточного филиала АН СССР», Владивосток, 1959, т. 1; Он же. Неолитические памятники бассейна Верхнего Амура.—«Материалы и исследования по археологии СССР», 1960. № 80; Он же. Бронзовый век Северо-Восточного Китая.— «Сов. археология», 1961, № 1; Он же. Неолит и бронзовый век Кореи.—В кн.: Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности. Неолит и эпоха металла. Новосибирск, 1978; Он же. Неолит и бронзовый век Маньчжурии, Внутренней Монголии и Восточного Туркеста[1]на.—В кн.: Дальний Восток и соседние территории в древности. Неолит и эпоха металла (в печати).
3. См., например: Тань Ци-сян, Тянъ Жу-кан. «Открыватели новых земель» или грабители, вторгшиеся в Китай? — «Лиши яньцзю», 1974, № 1 (на кит. яз.)
[08]
вители императорских дворов Китая милостиво отводили единственную роль в культурной и политической истории — изъявлять покорность и подносить так называемую «дань» «владыкам Поднебесной».
О полной неоправданности таких амбициозных взглядов в свете исторической реальности свидетельствуют страницы политической и культурной жизни тунгусо-маньчжурских племен сушень, илоу, уцзи, мохэ, а также народов Нижнего Амура и Крайнего Северо-Востока, их роль в событиях, развернувшихся на востоке Азии в древности и раннем средневековье.
О сушенях, загадочном народе севера, знали на востоке Азии, если верить начальным страницам истории Китая, посвященным деяниям пяти легендарных императоров, очень давно 4. Однако конкретные сведения о них ограничивались по существу рассказами о том, как их посольства преподносили при визитах ко двору императоров древки стрел из дерева ку с насаженными на них наконечниками, изготовленными из камня ну. Несомненно, долгое время, по крайней мере до конца эпохи Хань, название «сушень» служило своего рода синонимом диковинных и экзотических людей Дальнего Востока, юга Маньчжурии. Не случайно в древнем сочинении «Чжунсинсюй» в одном ряду с ними перечислялись «длинноногие», «белокожие», «люди с разными ногами», «однорукие», «мужеподобные», «люди с тремя туловищами», «плодородные» и «женоподобные». В подобном же окружении они упомянуты и на страницах географического трак[1]тата эпохи Хань «Шаньхайцзина». Если такие фантастические представления о сушенях господствовали в период Ханьской династии, то что реального могли знать о них на востоке Азии за два тысячелетия до этого? И все же, несмотря ни на что, начиная с легендарной эпохи, сушени упоминались в летописях, с од[1]ной стороны, как народ, играющий в истории какую-то значительную роль, а с другой, — из-за отсутствия конкретных сведений о нем, — как нечто сказочно-фантастическое и почти полуреальное. При всей досадной скудости информации о сушенях, о их политической истории в период, предшествующий времени «Трех династий», слова о значительности роли древнейших обитателей Дальнего Востока — отнюдь не оговорка и не преувеличение.
Впервые имя народа сушень, или в другом, реже встречающемся написании — сишень и цзишень, упомянуто в записях о примечательных событиях времени легендарного императора Шуня («Ши цзи», гл. «Уда бэньцзи»; «Хуайнаньцзи», гл. «Юаньдаошунь»; «Дадай лицзи», гл. «Шаоцзянь»). Сообщение предельно просто: в 2021 году до н. э. ко двору прибыло посольство племени сушень и преподнесло подарки в виде стрел с грубыми каменными наконечниками. Хронологическая точность события, как бы важно оно ни было, вызывает подозрение, поскольку речь идет об эпохе неолита, когда на территории Маньчжурии и Монголии существовала так называемая микролитическая культура, а в пределах Китая — культура яншао. Археологические материалы подтверждают контакты между ними, хотя трудно вообразить, чтобы уже на стадии новокаменного века, какой бы развитой ни казалась культура крашеной керамики бассейна Хуанхэ, велась точная фиксация происшествий вроде случившегося в 2021 году до н. э. Однако оставим в стороне многие несуразности. Гораздо важнее рассмотреть здесь вопрос о том, что, согласно источникам, заставило сушеней появиться при дворе Шуня, ибо в ответе скрывается, как увидим далее, ключ к правильной оценке множества последующих сходных по характеру событий исключительного значения.
Благодатный материал для размышления на эту тему дают комментарии Конфуция в «Лугой» в ответ на вопрос его ученика Цзай Во о годах правления Шуня. Философ, оказывается, считал далеко не случайным, что именно к этому правителю пришли «с подарками своей кустарной промышленности» «варвары» всех четырех сторон Поднебесной: с севера — шаньжун, бэйфа и сушень; с юга — цзячжи и бэйху; с востока — чжани и даои; с запада — сижун, чайчжи, цюйшоу, ди и цян. Такое всеобщее движение народов к «центру Поднебесной», согласно утверждению Конфуция, объяснялось настойчивыми и плодотворными усилиями Шуня по наведению порядка в Китае, укреплению мира в стране, широкому распространению в империи просвещения, его неусыпной заботой о расцвете культуры. «Вар[1]варам» в такой ситуации, если следовать логике рассуждений Конфуция, не оставалось ничего другого, как продемонстрировать «свою лояльность» по отношению к великому и просвещенному сыну Неба. Вот почему, оказывается, сушени послали посольство и преподнес[1]ли двору стрелы с каменными наконечниками.
_____________
4. Описания сушень — илоу см. в «Хоу Хань шу», гл. 75; «Саньго чжи», «Вэй чжи», гл. 30; «Цзинь шу», гл. 97; сведения о сушенях имеются также в сочинениях: «Го юй», гл. 5; «Щи цзи», гл. 1 и 47; «Хань шу», гл. 6 и 27; «Шоюань», гл. 18; «Дадай лицзи», гл. 7 и 11; «Шицзин», предисловие. Отдельные тексты переведены на русский язык: Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II. М.— Л., 1950; Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1951. См. также: Ларичев В. Е. Летописные известия о древних тунгусо-маньчжурских племенах сушень — илоу.— «Изв. Сиб. отд. АН СССР», 1964, № 11. Сер. обществ, наук, вып. 3; Ikenchi Hiroshi. A study of Su-shen — "Memoirs of the research department of the Toyo Bunko", 1930, № 5; Wada S. The na[1]tives of the Lower researches of the Amur river as repre[1]sented in Chinese records.— "Memoirs of the research de[1]partment of the Toyo Bunko", 1938, № 10.
[09]
Такого рода сообщения иногда используются как неоспоримые факты исторической действительности для подтверждения весьма сомнительных, но далеко идущих заключений. Вместе с тем многое в этих сведениях вызывает сомнение, заставляет относиться к ним скептически. Во-первых, один за другим вступали на престол до предела «обремененные» добродетелями императоры Юй династии Ся, Тан[1]ван династии Шан, Вэнь-ван династии Чжоу. В разделе «Шаоцзянь» сочинения «Дадай лицзи» по поводу каждого из них с поразительным однообразием и нудной стереотипностью одних и тех же выражений повторяется мотив восхищения деяниями великих в своем недосягаемом для простых смертных совершенстве китайских правителей древности.
С тем же отсутствием выдумки каждый раз отмечается как одно из высших результатов их мудрой деятельности, своего рода знамение угодного Небу труда — приход с подарками все тех же «потрясенных варваров» четырех сторон света. В качестве примера можно при[1]вести текст одного из разделов указа 134 г. до н. э. императора У-ди, приведенный в гл. 6 «Хань шу». Обращаясь в нем к владыкам позднего периода Чжоу Чэн-вану и Кан-вану, У-ди прославлял их за отмену наказаний, за безграничное распространение их царственных добродетелей, которые, по его мнению, достигли даже птиц и животных. Панегирик У-ди по адресу предков завершался традиционно величавым аккордом: из-за границы пришли суше[1]ни, бэйфа, цюйшоу, ди и цян, чтобы ни больше, ни меньше как предложить им свою покорность! Предки же У-ди тоже составляли по таким торжественным случаям соответствующие указы.
Во-вторых, настороженность и критицизм к подобным самодовольным заявлениям вызывает анализ тех немногих упомянутых в источниках событий политической истории сушеней эпохи Инь и Чжоу, в которых роль одной из древнейших групп племен Маньчжурии вы[1]глядит во многом иначе, чем стараются представить официальные историографы императорских дворов Китая. Обратимся сначала к эпизоду преподнесения сушенями стрел с каменными наконечниками чжоускому князю У-вану, который, «проложив дорогу к северным и южным варварам», победоносно завершил борьбу с последним иньским императором Чжоу-синем. Факт поднесения стрел подтверждается притчей все того же Конфуция, изложенной и гл. 5 «Лугой», в биографии философа из «Ши цзи», а также в «Хань шу». Существо события изложено следующим образом: когда Конфуций находился в княжестве Чэнь, то однажды случилось невиданное, как будто специально ниспосланное Небом, чтобы продемонстрировать окружающим широту и глубину познаний почетного гостя князя Минь-гуна: во внутренний двор строений упала стая кречетов, сраженных стрелами из дерева ку с каменными наконечниками. Удивленный Минь-гун приказал слугам подобрать убитых птиц и вместе со стрелами отнести их в дом, где жил Конфуций, и спросить его, что за диковины упали ему во двор. Гость, как и следовало ожидать, оказался на высоте, сразу же сказав: «Птица — род кречета, происходящего из страны Сушень, а стрелы с каменными наконечниками тоже доставлялись издалека, они употреблялись сушенями». Далее Конфуций рассказал хозяину дворца старую историю о том, как сушени поднесли в дар чжоускому князю У-вану древки стрел из дерева ку с наконечниками из камня ну. У-ван гордился таким подарком из немыслимо далекой страни, считал их знаком широких границ влияния его царственных добродетелей на дальние народы и в назидание потомкам приказал Юну сохранить стрелы и выгравировать на гуа (оперенной части, древка) слова: «Стрелы, подаренные племенем сушень». Строго следуя традиции, Юн составил указ о «дани» сушеней. Позже, выдавая дочь замуж за Ху Гуна из семейства У, которого У-ван назначил главой княжества Чэнь, он подарил ей из своей сокровищницы часть сушеньских стрел как знак установленных теперь родственных связей с Ху Гуном. Такой дар человеку, не находившемуся в кровномродстве с владыкой Поднебесной, служил в дальнейшем, по словам Конфуция, напоминанием о необходимости соблюдать верность монарху и одновременно означал, что Ху Гуну и впредь предстояло получать часть подарков, доставляемых ко двору отдаленными народа[1]ми, в том числе сушенями. И действительно, с тех пор княжеству Чэнь выделяли из под[1]ношений стрелы из дерева ку с каменными наконечниками. В заключение рассказа Конфуций предложил своему господину Минь-гуну, чтобы он отдал распоряжение чиновникам порыться в старых кладовых. По его утверждению, они непременно должны найти там сушеньские стрелы. Можно представить поэтому удивление главы княжества Чэнь, когда подчиненные, произведя поиски в сокровищнице, обнаружили в золотом ящике сушеньские стрелы! Эта легендарная история содержит в себе, по-видимому, зерно истинных событий. Во всяком случае, известно внимание, с которым относился к сведениям о далеких иноземцах великий философ древнего Китая.
Так, раздумывая над нескончаемыми беспорядками в своей стране, он, «питая гнев», однажды произнес знаменитые слова о том, что только у девяти племен иноземцев можно жить в спокойствии и порядке. Конфуций с негодованием отвергал традиционно презрительное от[1]ношение представителей правящей элиты княжеств собственно Китая к варварам-иноземцам, которых они неизменно «подозревали» в неве-
[10]
жестве, отсталости, сохранении «древнего» в обычаях и культуре.
Когда Минь-гун высказал нечто подобное в связи с эпизодом со стрелами, Конфуций, опровергая такие заключения, произнес, негодуя: «Почему следует презирать их? Благородный муж обитал там. Имел также учеников, имел желтого феникса». Далее последовали не менее примечательные слова: «Я верю в древнее и люблю его. Я ревностно ищу в нем познание». Если к сказанному добавить, что, судя по отдельным сведениям, Конфуций желал жить в краю иноземцев, называя его «безыскусным и обильным источником человеколюбия и почтения, превосходства и справедливости», то уважительное отношение философа к соседним с Китаем народам окажется бесспорным.
Однако главное заключается не в самом факте' поднесения стрел сушенями, а в событиях, которые стояли за ним, в подоплеке контактов между чжоуским племенным союзом и сушенями. Оказывается, ранее, готовясь к решающим сражениям с иньцами, У-ван, тоже, собственно говоря, глава «варварского» до недавнего времени союза чжоуских племен, сначала «заручался поддержкой» сушеней, «варваров» севера. По-видимому, уже тогда сушени пользовались на востоке Азии громкой славой храбрых ратников, и У-ван специально продумал и осуществил план подключения их к борьбе с Инь. Теперь не восстановить обстоятельств переговоров послов У-вана с вождями сушеньских племен. Но важен факт старания его непременно «заручиться поддержкой» тех, кто находился в стратегически важном районе — в тылу Инь на севере. Стоит ли разъяснять, что в предстоящей борьбе заручаются поддержкой не вассалов, а союзников — равноправных партнеров? Не менее примечательна история последовавшей затем борьбы
У-вана с восставшими против него братьями Гуанем и Цаем, которые, пытаясь выйти из состава Чжоу, поставили молодое государство на грань катастрофы и распада. В этот решающий момент У-ван снова обратился за по[1]мощью к сушеням, и, очевидно, именно они "главным образом и помогли ему ликвидировать смертельную для судьбы страны угрозу.
Учитывая общую ситуацию в бассейне Хуанхэ в начале эпохи Чжоу, нельзя не прийти к заключению, что сушени представляли собой далеко не простую пешку в сложной по[1]литической игре, которая велась тогда на во[1]стоке Азии. Не менее любопытны сведения по истории сушеней периода, последовавшего завременем правления Чэн-вана и Кан-вана, когда, если верить «Шу цзин», дикие племена на востоке были разбиты, а сушени принесли дань. Чего стоят на самом деле такие записи, раскрывает рассказ о том, как сушени в годы чжоуского князя Му-вана по каким-то причинам, возможно, из-за очередных попыток Ки[1]тая «проложить дороги» в их коренные земли, стали инициаторами союза всех «девяти племен восточных иноземцев». Присвоив себе новоеимя сюйи, сушени двинули свои войска прямо на столицу могущественной империи Чжоу.
«Свирепствуя», как сообщает источник, они успешно продвигались на запад и через некоторое время достигли Хуанхэ. Чем закончился беспрецедентный по смелости и масштабам по[1]ход тех, кого презрительно и несправедливо называли порой «вассалами» Чжоу, остается тайной. Вероятно, Му-вану в конце концов как-то удалось утихомирить разбушевавшихся северян. Известно только, что когда позже циньский князь попытался обезопасить свои границы от нападений восточных иноземцев, то прежде всего он приказал министру Инбо составить повеление о подкупе сушеней. Однако, по-видимому, их не удалось тогда вы[1]вести из игры. Эта история с дерзкой военной операцией союза племен «девяти восточных иноземцев», который возглавили вожди сушеней, не оценена пока историками в той мере, в какой она того заслуживает. Между тем в ней, пожалуй, в наиболее яркой форме раскрывается истинный характер взаимоотношений Китая с сушенями, лишенных стереотипноунылой однозначности.
Подводя итоги изложенным выше событиям доханъской эпохи, невозможно не увидеть тенденциозности оценок источниками так называемой «дани» сушеней императорским дворам Китая. Сведения о подношениях сушеней представляют собой очевидный результат пря[1]мой фальсификации, в особенности когда речь заходит об эпизодах времен глубочайшей древности — легендарной эпохи пяти императоров. Бесспорно прав был японский историк[1]востоковед Хироси Икэути, впервые обобщивший такого рода факты, когда отмечал, что подобные истории следует воспринимать как пустое краснобайство 5. По его мнению, у древ[1]них китайцев сложились весьма специфическиепредставления об идеальном правительстве, не останавливаясь перед прямой подтасовкой фактов, они старались каждый раз показать, как появление в Китае «всеблагого императора» неизменно служило сигналом для прибытия посольств с подарками от «варварских» племен всех сторон света. Цель таких невинных, на первый взгляд, упражнений очевидна: придворные историографы подчеркивали тем самым безграничную силу морального влияния идеального правителя, непревзойденные добродетели которого будто бы так влияли на окружение, что в Китае не могли не появиться посольства «варваров» с изъявлениями покорности. Такая традиция, однажды появившись,
______
5. Ikeuchi Hiroshi. A study of Su-shen. — Memoirs of the research department of the Toyo Bunko, 1930, n. 5.
[11]
затем канонизировалась и впредь не нарушалась, чем и объясняются стереотипно стандартные фразы источников об «умиротворении варваров» и об уплате ими дани Китаю.
«Традиционный идеал» покрывал туманом реальность истории. Поэтому если в «Цзо чжу[1]ань», например, в описании событий правления чжоуского князя Цзин-вана отмечается, что земли сушеней, янь и бо являются северными землями Китая, то, как ни парадоксально, истина здесь заключается только в том, что на север от Чжоу расселялись перечисленные племена.
Однако Хироси Икэути в своем суперкритицизме заходит, пожалуй, слишком далеко, заявляя, что посольства сушеней вообще не прибывали к императорским дворам доханьской эпохи и что сведения о них — пустые выдумки. Приведенные выше эпизоды из политической истории иньско-чжоуской эпохи, в которых фигурируют сушени, показывают, что дело обстояло далеко не так просто. Подарки сушени действительно подносили. Об этом свидетельствуют, в частности, «Бамбуковые анналы» («И чжоу шу»), где отмечается, что цзишени (так называли сушеней) преподнесли императору Чжоу большого оленя или лося.
Но следует отнестись критически к выводам, которые делали придворные историографы на основе такого рода фактов. Отчетливо прослеживается таинственная закономерность появления послов сушеней в самые, пожалуй, критические моменты китайской истории. Поневоле возникает подозрение — не провоцировались ли порой престижные для политических сил появления посольств сушеней с дарами в виде экзотических стрел из дерева ку с насаженными на них каменными наконечниками ну? На глубоко замаскированную подоплеку появления посольств, очевидно, обусловленную все теми же морально-престижными канонами китайского двора, наталкивает сначала несколько неожиданный эпизод, связанный с попытками министра Инбо подкупить сушеней ради безопасности северных границ Китая.
Возникает, естественно, мысль о иных возможных аспектах установления контактов с сушенями. И эту мысль подтверждают событиябурной истории конца эпохи Инь, периода Трех царств — Вэй, У и Шу, а также Запад[1]ной и Восточной Цзинь, охватывающих хронологический отрезок времени в несколько веков.
Каких-либо сведений о сушенях, в том числе сообщений о прибытии их посольств с традиционными подарками, нет в хрониках эпохи Цинь и Хань. Источники более позднего времени прямо и с нескрываемым оттенком удивления и даже осуждения отмечают, что в «блестящие годы» правления императоров династий Цинь и Хапь послы сушеней не посещали Китай. В главе «Сушень» «Цзинь шу» встречаются примечательные слова: «Даже славные династии Цинь и Хань не смогли заставить их платить дань!» Правда, в «Хань шу» при описании событий 1-го года эры правления юанькан знаменитого У-ди приводятся сведения об указе императора, в котором он гневно осуждал сушеней за то, что они не пришли ко двору. Можно яги отсюда сделать вывод, что в годы, предшествующие эпохе Хань, сушени приходили в Китай? Вероятнее всего, нет — У-ди гневался чисто риторически.
Во всяком случае подобный вывод не противоречит фразе «не смогли заставить их платить дань», а, напротив, подтверждает ее. Сушени, несомненно, сохраняли полную независимость от Хань. Такое предположение, как увидим далее, находит естественное объяснение в событиях политической истории Маньчжурии и Кореи последних веков до нашей эры и первых веков нашей эры. В документах более позднего времени встречается значительное количество упоминаний о приходе послов сушеней в Китай и, что значительно важнее, впер[1]вые появляются бесценные в своих подробностях истинно этнографические по характеру описания как самого народа, так и земель, которыми он владел.
Остановимся, однако, на анализе одной из главных проблем. Какие обстоятельства вы[1]звали приход первых после очень длительного перерыва посольств сушеней, что в действительности скрывалось за такими дипломатическими акциями и каким образом удалось со[1]брать сведения о жизни одного из племен «восточных иноземцев», об особенностях их страны и месте ее расположения в пределах границ северных земель.
Учитывая предшествующий анализ событий, связанных с сушенями, можно априори предполагать далеко не случайный факт первого появления их послов в период, когда на севере Китая окрепло могущество государства Вэй. Именно тогда в «Анналах государя Мин-ди» в главе 3 «Вэй чжи» в записи пятого месяца 4-го года эры цинлун (236 год н. э.) появилась знаменательная фраза: «Племя сушеней подарило стрелы ку». Как и правители двух других царств, на которые распалась взорванная противоречиями, раздорами и вой[1]нами империя Хань, вэйский император Мин-ди всеми силами стремился продемонстрировать свое величие перед соперниками-соседями. Можно ли представить более весомый показатель своих добродетелей и влияния на дела всей Поднебесной, чем прибытие ко двору послов легендарных сушеней, тех самых, которые преподносили стрелы из дерева ку Шуню, Юю, а также целой череде могущественных чжоуских правителей? К тому времени хитроумный Мин-ди, накапливая силы к пред[1]стоящей борьбе с соперниками, активно готовился к захвату Ляодуна, где с позднеханьского времени деладга в губернаторстве Пинчжоу
[12]
вершило, сохраняя полную независимость от Китая, семейство Гун-сунь, главная резиденция которого находилась в Сянпине (современный Ляоян). Пинчжоу, где тогда правил сын Гун-еуня Вэнь-и (он же Юань), располагалось в беспокойном соседстве с восточными иноземцами, в том числе с могущественным корейским государством Когурё, племенами фуюй, а так[1]же сушенями. Однако угроза, нависшая над Пинчжоу со стороны Вэй, не без основания представлялась Вэнь-и смертельной, во всяком случае не сравнимой с тем, что можно было ожидать при самом неблагоприятном развитии событий во взаимоотношениях с «восточными иноземцами» («дунъи»), т. е. с корейскими и тунгусо-маньчжурскими племенами Дальнего Востока. В такой ситуации появление посольства сушеней в 236 году н. э. при дворе Мин-ди следует рассматривать скорее всего как остроумный предупреждающий шаг Вэнь-и, который, демонстрируя как посредник свою лояльность Вэй, организовал прибытие послов из страны, с которой он, судя по всему, поддерживал контакты. Задуманная акция, однако, не привела к желанным результатам. В 238 году, через два года после того как Мин-ди принял посланцев сушеней, экспедиционная армия Вэй под руководством полководца Ван Цзи обрушилась на Ляодун, положила конец самостоятельности Пинчжоу и как следствие про[1]исшедших изменений лишила власти Вэнь-и.
Согласно сведениям из географического раздела «Цзин шу» «Дилицзи», Пинчжоу сначала превратили в одну из провинций царства Вэй, а затем включили в состав вэйской провинции Ючжоу. Поскольку правители Вэй теперь сами решали сложные проблемы взаимоотношений с «восточными иноземцами», в том числе, разумеется, и с сушенями, в Сянпине им пришлось создать специальное административное подразделение «дунъи цзяовэй», или «ху дунъи цзяовэй», задача которого заключалась в «сдерживании» иноземцев и «наблюдении» за событиями в районе Дальнего Востока, где расселялись корейские и тунгусо-маньчжурские племена. Таким образом, в результате прямых контактов с членами посольства, а также при посредстве «дунъи цзяовэй» создавались предпосылки для накопления конкретных сведений о народе сушень. Нужно иметь в виду, ко всему прочему, что около 245 года н. э., во время правления Ци-вана, китайцы предприняли новую военную экспедицию с целью порабощения государства Когурё. Армию Вэй возглавлял губернатор округа Сюаньту Ван Цзи, который по приказу полководца My Цю-цзяня, преследуя когурёского государя, дошел до границ сушеней и даже будто бы «попрал их очаги». Сведения об этом содержатся в «Вэй чжи». Кроме того, это подтверждается текстом, выбитым Ван Цзи на каменной стеле, обнаруженной японскими археологами на горе Вань-ду в уезде Цзиань провинции Гирин. В тексте сообщается о результатах военной акции. Первые столкновения китайцев с отрядами сушеней отражены летописцами при описании народа сушень в разделе «Илоу» хроники «Вэй чжи».
Не менее примечательно время прибытия ко двору Вэй второго посольства вождя племени сушень Жуцзи. Оно зафиксировано на страницах «Вэй чжи» через 26 лет после появления первого посольства и за три года до падения династии: в 3-м году эры правления цзинь[1]юань последнего императора Чэнь Лю-вана (262 год н. э.). Закулисная сторона события, после которого особенно четкими стали представления о сушенях, настолько симптоматична, что для раскрытия истинного значения его и тайных движущих причин нужен специальный обзор с привлечением материалов, собранных Хироси Икэути и подвергнутых им тщательному анализу. О приходе посольства сушеней в 262 г. н. э., как записано в главе 4 «Вэй чжи» «Анналов Чэнь Лю-вана» в перечне событий четвертого месяца 3-го года эры правления цзинь-юань, вэйский двор узнал из сообщения, которое доставили императору из префектуры Ляодун. В нем содержались сведения о прибытии посла племени сушень, который поднес разнообразные подарки. Среди них, по[1]мимо «некоторого количества» традиционных древков стрел из дерева ку, а также 300 каменных наконечников находились никогда ранее не упоминавшиеся в перечне даров суше[1]ней 30 луков, 20 различных военных доспехов, изготовленных из шкур животных, рога и железа, и, наконец, самое ценное — 400 соболиных шкурок. Далее, согласно тексту главы 2 «Цзин шу», последовали события, на первый взгляд, необъяснимые: Чэнь Лю-ван отдал распоряжение отправить подарки посольства сушеней в управление дацзяньцзюню (генералиссимусу) Сыма Чжао. Смысл такого шага объясняется, однако, положением, которое занимал тот при вэйском императорском дворе.
Отец будущего основателя западной цзиньской династии Сыма Яня, носившего затем в императорском ранге имя У-ди, Сыма Чжао захватил к тому времени неограниченную власть при дворе и приобрел абсолютный контроль над государственными делами. Ему еще пред[1]стояло в следующем году официально занять пост главы правительства непоправимо клонившейся к упадку династии Вэй, а император, уже не пытаясь замаскировать свою обреченность и открыто демонстрируя перед под[1]чиненными истинное соотношение сил, приказал передать дар знаменитых сушеней тому, кто обладал в государстве реальной властью и, следовательно, заслужил такую честь. Не исключено, правда, что его заставили сделать так.
Жест этот полон глубокой символики. Его значение раскрывается в «Цзинь шу», когда в той же главе о сушенях неожиданно говорится
[13]
о том, что они точно так же пришли с наконечниками к чжоускому двору, когда Чжоу-гун принял на себя регентство «в защиту» Чэн-вана. Затем сушени тысячу лет не появлялись при императорских дворах, и только вот сейчас, когда Сыма Чжао стал премьер-министром государства Вэй (исходя из реальной власти, конечно же, регентом Чэнь Лю-вана), сушени как благостный, а для кого-то трагический признак предстоящих перемен власти снова появились при дворе императора. Этим, однако, дело не ограничивается, поскольку столь же глубоко значительна по подтексту последующая передача Чэнь Лю-ваном дара сушеней не кому-нибудь, а именно Сыма Чжао, по существу его сопернику. К счастью, понять подтекст в данном случае можно. Дело в том, что подобный же прецедент в истории уже отмечался и не случайно он связан с чжоуским князем Чжоу[1]гуном, возвышение которого знаменовало собой прибытие сушеньских послов. В предисловии к «Шу цзин», а также в «Ши цзи», «Шан[1]шу дачжуань» и «Шаюань» рассказывается история о том, как Тан Шу, брат чжоуского императора Чэн-вана однажды послал ему три зерна необычного злака, произрастающего на склонах холмов. Стебли его соединялись в одинокий колос, достигая в высоту уха человека, а зерна были настолько крупными и тяжелыми, что заполняли телегу. Зерна, доставленные во дворец, Чэн-ван, однако, приказал отправить на восток в военный лагерь Чжоу-гуна, который не замедлил воздать хвалу правителю в трактате «Послание зерен». Давая Объяснение феномену, он говорил, что три растущие в один колос зерна представляют собой знак благополучия, гармонии и единения Поднебесной. А разве сейчас, на 6-м году его, Чжоу-гуна, регентства не царит спокойствие над всей страной Чэн-вана? Не при его ли, Чжоу-гуна, неустанных стараниях созданы кодексы этикета и определены музыкальные стандарты? Поэтому как знак всеобщего умиротворения следует оценивать прибытие с севера послов племени сушень, подаривших стрелы с каменными наконечниками. О том же свидетельствует
приезд на трех слонах послов южного племени юэшань. Они пришли настолько издалека, что пришлось неоднократно расспрашивать о дороге. Послы преодолели множество труднопроходимых гор и рек и натерпелись такого страха, что даже рассказать невозможно. Теперь они прибыли и дарят тому, о ком прошли вести по всему миру, несколько белых фазанов. Затем произошло самое знаменательное — Чэн-ван передал подарок послов юэшань, как, очевидно, и стрелы сушеней, тому, кто, по его мнению, на самом деле заслужил их — регенту Чжоу-гуну. Знаменательная аналогия!
Таким образом, если возвратиться к анализу на удивление сходного эпизода, рассказанного на страницах летописи цзиньской династии «Цзинь шу», то невозможно не заметить, что источник намекает на сравнение Сыма Чжао с Чжоу-гуном. Смысл аналогии заключается в следующем: как добродетелен должен быть Сыма Чжао, как силен у него характер и высоко положение, чтобы, как в золотые времена чжоуской династии, при дворе снова появились сушени, а подарки их император переадресовал ему. Дошло ли до сознания современников Сыма Чжао символическое значение события?
На такой вопрос, вскрывающий самое существо подоплеки события, связанного с приходом на Ляодун послов сушеней, можно ответить утвердительно. Оказывается, Сыма Чжао постарался сделать так, чтобы соседние государства узнали о знаменательном происшествии и, по достоинству оценив его, вострепетали. В главе 28 «Вэй чжи» помещена биография вэйского полководца Чжун Ху-эя, который возглавлял в 263 году н. э. войска «Западной экспедиции», направленной против государства Шу.
Желая по-настоящему запугать правителя Шу, он отправил ему послание, где, используя самые высокопарные выражения, расхваливал Чэн Лю-вана как государя, возвысившего благодаря священным добродетелям и счастливому просвещению престол династии Вэй, а так[1]же превозносил его первого министра, безмятежно мудрого и искренне преданного императору Сыма Чжао. Далее в послании отмечалось, как Чэн Лю-вану и Сыма Чжао удалось объединить всех в гармонии, что оказало благотворное воздействие на сотни диких в варварстве племен. Как знак наивысших достижений мудрой политики и укрепления могущества государства отмечался тот факт, что Сыма Чжао с тем же успехом мог бы похвастать, что вэйскому двору платили дань не просто послы, а даже вожди племен хань и вэймо.
Вместе с поданными прибыли они в столицу, согласно сообщению главы 4 «Вэй чжи», в седьмой месяц 2-го года эры правления цзинь-юань императора Чэнь Лю-вана, т. е. в 261 году н. э. Если Сыма Чжао не сделал этого, то объяснить подобную скромность можно лишь тем, что народы хань и вэймо, расселившиеся на границе древней Кореи, мало ктознал на востоке Азии. Иное дело сушени, которые прислали послов на следующий год. Их имя прославлено деяниями выдающихся владык дома Чжоу.
Итак, письменные источники оставляют мало сомнений в том, что Сыма Чжао в полную меру использовал приход послов сушеней на Ляодун для поднятия собственного престижа, чем и объясняются намеки летописцев на исторические прецеденты. Полный за[1]хват власти семейством Сыма — вот конечная цель ажиотажа вокруг посольства сушеней 262 года, т. е. за три года до падения династии Вэй. А пока Чэн Лю-вану не оставалось ни-
[14]
чего другого, как расплачиваться из собственной казны за затею своего честолюбивого премьер-министра Сыма Чжао — послы сушеней отбыли в столицу с подаренными императором их вождю Жуцзи несколькими кусками золотой парчи, шелковой материи и небольшим войлочным ковриком цзи.
Подводя итоги сказанному выше, можно констатировать, что сушени и через две тысячи лет после первого появления их имени на страницах хроникальных записей продолжали играть однажды отведенную им в канонических традициях роль перста Неба, указующего на праведность и могущество императора пли стоящего за его спиной лица. В случае с Сыма Чжао возникает, кроме того, редкостная возможность приоткрыть завесу над святая святых закулисной стороны-дела и прояснить истинный характер взаимоотношений Китая с миром «восточных иноземцев». Неожиданное для начала второй половины III века н. э. расширение сведений о сушенях с описанием де[1]талей жизни и быта незнакомого народа, на которые мог обратить внимание лишь чужестранец, оказавшийся в поразительно непривычном для него мире, со всей определенностью показывает, что Сыма Чжао не просто воспользовался счастливой случайностью прибытия на Ляодун сушеней, а, заранее обдумав и разработав «операцию», послал к ним своих людей с дарами, которые «спровоцировали» благовоспитанного вождя Жуцзи на ответное посольство с подарками вэйскому государю.
Возможно, правда, «заманивание» послов сушеней в 262 году так же, как х за год до того прибытие вождей племен хань и вэймо от градиц древней Кореи, организовали догадливые чиновники «дунъи цзяовэя» Ляодуна, наблюдавшие и сдерживавшие «восточных иноземцев». Лукавые подданные Чэн Лю-вана чувствовали, как ослабла власть государя, и решили подыграть тому, кто обладал реальной властью.
Но суть случившегося не менялась — сушени, которые за четверть века до этого призваны были провозгласить возросшее могущество царства Вэй, теперь приглашались объявить его печальный конец. В этом и состоит существо исторического эпизода.
Уверенность в том, что так оно на самом деле и было, придает то обстоятельство, что Сыма Чжао, расчищавший путь к становлению нового государства Западная Цзинь, не первый установил традицию «провоцирования» посольства чужестранцев для укрепления престижа и расширения популярности. Его предшественники — на том же сомнительном поприще достаточно именитые и известные в китайской истории деятели. В частности, поразительно сходную «операцию» за два с половиной века до того блестяще осуществил знаменитый реформатор эпохи Хань Ван Ман. Эта история тем более обращает на себя внимание, что и Ван Ман, как затем и Сыма Чжао, несомненно, подражая чжоускому регенту Чжоу-гуну, при выполнении задуманного «сработал» не совсем чисто и оставил «следы», которые во всей подноготной раскрывают истинные обстоятельства прибытия соседей ко двору того или другого правителя Китая. В главе 18 «Хань шу», где описываются события первого месяца весны 1-го года эры правления юань-ши Чэн-ди (1 год н. э.), как и в главе 99 «Хань шу», где помещена биография Ван Мана, внезапно появляются сообщения о неожиданном прибытии ко двору посольства того самого племени юэшань, посланцы которого во времена Чэн-вана с трудом и после многочисленных расспросов добрались до столицы Чжоу на трех слонах, что[1]бы в знак восхищения установлением мира и порядка в Поднебесной поднести владыке несколько белых фазанов. Впрочем, стоит ли всерьез говорить о неожиданности, если далее говорится, что в течение нескольких лет правления вдовствующей императрицы, матери Чэн-ди, страну заполонила небесная добродетель и жители ее наслаждались миром, а делами заправлял регент дасыма (генералиссимус) Ван Ман, достойный всяческих похвал в службе императрице. Послы юэшань, как и в чжоуские времена, подарили двору фазанов — одного белого и двух черных, а императрица, по предложению Ван Мана, приказала пере[1]дать диковинных птиц императорскому мавзолею. Весь двор и члены правительства сделали вид, что они потрясены деликатным шагом регента и стали на все лады превозносить добродетели Ван Мана, подсказывая недогадливым, что преподнесение «дани» фазанами от племени юэшань очень напоминает такое же происшествие, случившееся тысячу лет назад в благословенные времена Чэн-вана династии Чжоу. Вдовствующей императрице не оставалось ничего другого, как наградить Ван Мана, без сомнения, равного в усердии по службе чжоускому регенту Чжоу-гуну, новым титулом аньхань-гун.
Можно было подумать, что Ван Ман не предпринимал каких-либо действий и просто ловко использовал благоприятно сложившуюся ситуацию для продвижения по служебной лестнице, удовлетворения собственного тщеславия и лестного для честолюбца восхваления своей персоны дружным хором придворных льстецов. Но ко двору в то же время помимо послов южноазиатских юэшань прибыли по[1]сланцы из страны Хуанчжи, расположенной за 30 000 ли от Хань на восточном побережье Индии. Они привели с собой и подарили вдовствующей императрице живого носорога. Поистине Ван Ман имел право, обращаясь к государыне, самодовольно объявить, что нет далеких и чужестранных народов, не приходящих к ним с жаждой добродетели. Есть, однако, веские основания предполагать, что как
[15]
двор, так и императрица лишь делали вид, что не знают, отчего на самом деле прибыли в Хань послы юэшань из страны Хуанчжи и поднесли «дань». Ведь в разделе географии «Дили чжи» той же хроники «Хань шу» в главе 28, где рассказывается о Юэ, с наивной простотой и благодушием сообщается, как будущий узурпатор прав императора династии Хань Ван Ман послал подарок государю страны Хуанчжи, вынудив его тем самым направить в ответ послов с живым носорогом. Что касается юэшань, то в биографии Ван Мана, включенной в главу 99 «Хань шу», с той же непосредственностью описывается, как он с помощью Ичжоу стремился получить для себя выгоду, используя «благоприятный признак» дани юэшань — белых фазанов. Ван Ман без каких-либо околичностей предложил вынудить «варваров» юга подарить ханьскому двору белых фазанов. Предложение всесильного генералиссимуса следовало воспринимать как приказ, после чего из Хань направили на юг подарки, «провоцируя» «варваров» юэшань на поднесение того, что затем перечислялось в хронике как «дань». Многие посольства от благовоспитанных правителей юэшань и страны Хуанчжи действительно прибыли, все остальное стало для Ван Мана, как говорится, «де[1]лом техники» ловкого и прожженного в дворцовых интригах политикана.
Как видим, Сыма Чжао не пришлось ломать голову над разработкой сценария, связанного с «операцией» по прибытию ко двору Вэйпосольства сушеней. Сыма Чжао, не мудрствуя лукаво и не претендуя на оригинальность, заимствовал «метод» у Ван Мана, а тот, в свою очередь, у Чжоу-гуна.
Примечательно, что много позже, когда составлялась «Цзинь шу», официальная летопись династии Западная Цзинь, историографызаметили, как мало примечательной с точки зрения прибытия иноземных послов была деятельность премьер-министра вэйского двора Сыма И, отца Сыма Чжао и деда У-ди, основателя новой династии. И вот тогда-то в главу 1 «Цзинь шу», где помещено жизнеописание Сыма И, которому присвоили посмертно имя Сюань-ди, придворные летописцы ничтоже сумняшеся вставили эпизод о прибытии в 240 году н. э. в столицу вэйского императора Ци Ван-фана послов «дикого восточного племени Во» (японцев), народаянчжи (Восточный Туркестан) и вождей знаменитого племени сяньби, живших к югу от Сунгари. Все они, разумеется, поднесли «дань» и сделали подарки.
В свете описанных уже эпизодов кажется закономерным последовавший затем эпизод, когда государь «отдал славу» события тому, кто ее в действительности заслужил, т. е. Сыма И. Беда лишь в том, что в официальной хронике вэйской династии «Вэй чжи» нет ни строчки о знаменательном прибытии послов во, янчжи и сяньби. Фальсификация, таким образом, на[1]лицо, как очевидны и ее причины — желание во что бы то ни стало прославить Сыма И,а также стремление, не останавливаясь перед любыми подлогами, объяснить прибытие послов далеких стран его высокими добродетелями. А ведь такие невинные, на первый взгляд, «проделки» играющих в беспристрастность сочинителей династийных историй станут затем основанием для территориальных притязаний!
Между тем вся эта возвеличенная ссылками на традиции и многозначительные знамения игра, по-видимому, ясная современникам тех, кто, наращивая силы, неудержимо рвался к власти и престолу, имела лишь один, бесспорно, положительный итог — благодаря лазутчикам Ван Мана, которые оставили свои отчеты о путешествии в «страны юго-западных морей? (их включили затем в раздел географии «Хань шу»), историки располагают теперь сведениями о племени юэшань и стране Хуанчжи, как и обо всем встреченном на пути к ним. Идея же плагиатора Сыма Чжао последовать при[1]меру Ван Мана и направить агентов в страну сушеней предоставила в распоряжение исследователей ранней истории Маньчжурии первый связный и достаточно подробный рассказо жизни обитателей юга Дальнего Востока начала нашей эры. Раздел, посвященный сушеням, из династийной хроники «Цзинь шу» представляет собой, без сомнения, отчет доверенных людей Сыма Чжао, подосланных в земли вождя Жуцзи. Но агенты Сыма Чжао, строго говоря, не нашли на юге Маньчжурии тот народ, который носил название «сушень».
Жуцзи возглавлял в действительности племя, самоназвание которого звучало в произношении лазутчиков из Китая как «илоу». В свете сюжетов, описанных ранее, возникает, естественно, проблема: на самом ли деле илоу и есть те же сушени чжоуской эпохи, как старается уверить «Цзинь шу»; не связываются ли илоу с сушенями намеренно, чтобы непременно поднять престиж Сыма Чжао, ибо кто же в Китае знал илоу.
После уяснения тайных пружин, движущих «операциями» Чжоу-гуна, Ван Мана и Сыма Чжао, не менее существенно раскрытие истинного характера и смысла «дани» императорским дворам Китая со стороны иноземных народов. Соседей, оказывается, провоцировали на ответные дары, но у себя затем, сочиняя указы, расценивали подобное, не имея на то никаких оснований, как показатель покорности «варваров», вассалитета, просьбы покровительства и даже включения в состав Поднебесной. Очевидно, вначале вожди племен не отдавали себе отчета в том, что означали титулы, которыми их награждали, препровождая ответные дары, и почему земли, подвластные им, неожиданно получали чужеземные названия. Но значительно позже чжурчженьский государь Агу-
[16]
да, основатель Золотой империи, уже нещадно порол своих послов, соблазнившихся однажды принять китайские титулы. Народы Дальнего Востока к тому времени досконально уяснили традиции «владык Поднебесной» и оценили их хитроумные уловки. Раскрытие истинного смысла организации прибытия в Китай посольств сушеней с «данью» затрагивает жизненно важную проблему изначального суверенитета и национальной независимости народов Дальнего Востока. Последующие сведения о сушенях, в частности, по времени связанные с годами правления сына Сыма Чжао — Сыма Яня, который после свержения Вэй стал императором и принял имя У-ди, касаются пре[1]дельно краткого упоминания о их «посольстве» и предоставлении «дани» двору новой династии Западная Цзинь. Еще более примечательны столь же сухо протокольные сообщения о прибытии посольств сушеней в после[1]дующие годы. Но как меняется картина политической обстановки на севере Китая именно в те периоды, когда на страницах хроник вновь внезапно появляются сведения о поднесении сушенями традиционных даров в виде каменных наконечников стрел!
Что касается честолюбивого У-ди, то его уже вряд ли могли удовлетворить дары сравнительно близко расселявшихся от Ляодуна сушеней. По-видимому, не случайно в записях 3-го года эры Тай-шн (267 г. н. э.), т. е. через два года после того, как он занял императорский трон, в «Цзинь шу» в разделе о варварах (гл. 4) сообщается о прибытии с подарками представителей четырех племен бэйли: 20 000 семей жили на расстоянии 200-дневного путешествия верхом на север от границ сушеней — яшоню, 20 000 семей расселялись в 50 днях пути верхом от бэйли — коумохань, 50 000 семей обитали в 100 днях пути от янюнь, земли ицюнь отстояли на 150 дней путешествия верхом от коумохань и на 50 000 ли от страны сушеней. Протяженности всего евразийского континента не хватит, чтобы определить границы распространения слухов о мудром правителе У-ди! Возникают, однако, большие сомнения в подлинности события или во всяком случае в столь значительной отдаленности мест обитания четырех племен, расселявшихся к северо-западу от сушеней. Трудно, в частности, понять, почему о землях этих племен и их обычаях, как отмечается в «Цзинь-шу», «ничего не известно», если при дворе У-ди действительно побывали упомянутые в тексте хроники «небольшие посольства с дарами их земли». Разве чиновникам, ведавшим связями с «варварами», не представился уникальный случай расспросить о дальних странах и людях, которые владели ими? Создается впечатление, что У-ди был не очень заинтересован в прибытии посольства от сушеней.
Как ни странно, сушени впервые упомянуты лишь в главе 3 «Цзинь шу», где описываются события двенадцатого месяца 5-го года эры правления сяньнин У-ди, т. е. 279 год н. э.
Запись предельно скупа, и из нее можно узнать лишь, что пришли сушени и поднесли обычные для их даров стрелы из дерева ку и каменные наконечники стрел. Итак, посольство сушеней прибыло ко двору только на 12-й год установления господства в Северном Китае новой династии Западная Цзинь. Невероятная в других условиях незаинтересованность владыки трона! Столь же сдержанно упомяну[1]то прибытие послов сушеней в 280 году — никаких подробностей, кроме факта, что они «снова пришли». И все-таки особое отношение к сушеням отмечается в «Цзинь шу» даже при таких кратких заметках, поскольку другие племена в годы правления У-ди часто не называются по имени. О них лишь следует догадываться. Например, сообщается о преподнесении подарков послами 10, 17 или 30 племен Востока — названия их не приводятся, в чем нельзя не заметить явного пренебрежения по отношению к «варварам» со стороны двора У-ди и летописцев. Тем примечательнее, что даже в плотном потоке посольств от соседей государства Западная Цзинь во вторую половину правления императора У-ди сушени дважды упомянуты особо. Итак, сушеней, несмотря ни на что, чтили. Еще живы были вос[1]поминания о их роли в эпохи легендарных императоров и могущественных правителей династии Чжоу.
Однако факт прибытия ко двору посольства сушеней и преподнесения ими подарков снова обретает значительность в последующее время, когда на севере Китая начинаются очередные потрясения, обостряется политическая борьба между отдельными группами феодальной знати и усиливается натиск в бассейн Хуанхэ кочевых племен, что в конце концов при[1]водит к полному развалу империи Западная Цзинь и образованию обособленных государств, слабых и маловлиятельных. За первым же после длительного перерыва сообщением о поднесении подарков сушенями в Цзянцзо (низовья Янцзы), отмеченном в главе 6 «Цзинь шу», скрываются серьезные события. На сей раз сушени поднесли стрелы и каменные наконечники стрел в восьмом месяце 2-го года эры правления тай-син императора Юань-ди, т. е. в 319 году н. э., на второй год после того как он, образовав новое государство Восточная Цзинь, обосновался на Янцзы в Цзянкане (Нанкине) — столице новой империи. Кажется маловероятным, чтобы сушеньские послы прошлив тот тревожный период так далеко на юг ради приветствия только что образовавшегося государства. Но так оно, как выясняется, и было. В сочинении «Дахуан бэйцзин», включенном в «Шань хай цзин гуанчжу», сообщаются некоторые подробности происшествия.
[17]
Оказывается, подарки двору Юань-ды поднес[1]ли не сами сушени, а посланник главы провинции Пинчжоу и Ляодуна Цай Би, чинов[1]ник по имени Гао Хуэй. Он доставил в Цзян[1]кан не только наконечники стрел, но такжелуки и древки. При этом еще в Пинчжоу за[1]метили, что наконечники стрел сушеней очень похожи на бронзовые или костяные (по-видимому, их изготовили из темного шифера). Когда посла сушеней спросили об этом, он ответил, что такие предметы произошли из страны среди морей. Именно контакты с нею позволили им приобрести такое оружие.
Что в действительности скрывалось за визитом Гао Хуэя на берега Янцзы, позволят раскрыть некоторые материалы, собранные Хироси Икэути. Оказывается, в начале IV века н. э. в огромной степени усилилась роль в дальневосточных делах корейского государства Когурё и по существу сошло на нет влияние стремительно клонившейся к упадку империи Западная Цзинь. Дело дошло до того, что когда вождь племени сяньби Муюн Гуй занял на юге Маньчжурии г. Дацзичэн, то основателю, государства Восточная Цзинь не оставалось ничего другого, как сделать хорошую мину при плохой игре — «назначить» Муюн Гуя главой провинции Пинчжоу. Разумеется, правителя Когурё Ифули такая чисто символическая мера не испугала, и он начал непрерывные атаки на Ляодун, сферу давнего влияния корейских племен. Отразить продвижение войск Ифули сянь[1]биец Муюн Гуй не мог. Посольства восточных племен, столь многочисленные во вторую половину правления западноцзиньского князя У-ди, прекратились уже в первые годы после вступления на трон его преемника Хуэй-ди. Именно тогда на севере Китая вспыхнула так называемая «война восьми князей», которая продолжалась 16 лет (291—306 годы н. э.).
Всюду происходили стычки с войсками «пяти племен ху» — сяньбийцы завоевали северо-западное побережье залива Чжили, дунъи — Ляоси, а сам Муюн Гуй провозгласил себя правителем префектуры Цзянли, включая нижнее течение р. Далинхэ. Кроме того, вне границ Ляодуна значительное влияние приобрело племя юйвэнь. На Ляодуне между тем происходили не менее трагичные по последствиям события, которые в итоге привели к окончательному падению влияния там Западной Цзинь. В 309 г. н. э. правитель префектуры Ляодун Пан Пэнь убил Ли Чжэна, руководителя «дунъи цзяовэя», учреждения, наблюдавшего за «восточными иноземцами». Это событие послужило своего рода сигналом для атаки сяньби, кочевавших за пределами Великой стены, на Ляодун. Сяньби захватили большую часть районов полуострова и господствовали там на протяжении двух лет. Новый губернатор и очередной руководитель «дунъи цзяовэя» оказались бессильными предпринять что-либо, и в такой ситуации лишь Муюн Гуй оказался единственной силой, способной обуздать вышедшие из подчинения племена сяньби. Победа, однако, не привела к коренному изменению обстановки. К тому же империя Западная Цзинь буквально разваливалась на глазах — хунну захватили вскоре Шаньси, в 311 году их вождь Люй Цун овладел сначала столицей Лояном, а в 316 году — Чанъанем. Самой ценной добычей хунну стали в первом случае император Хуэй-ди, а во втором — Минь-ди. Так прекратила свое существование Западная Цзинь.
Трудно представить, что через три года после такой оглушительной катастрофы, когда трон Цзинь наследовал бежавший на Янцзы правнучатый племянник знаменитого Сыма Чжао Ланье Ван Жуй, он же Юань-ди, суше[1]ни вдруг вздумали направить своих послов с «данью» в неведомый им Цзянкан. Правда, согласно сообщению «Дахуан бэйцзин», сушеньское посольство прибыло лишь на Ляодун к главе его Цуй Би, который тогда сосредоточил в своих руках судебную власть в провинции Пинчжоу и возглавлял «дунъи цзяо[1]вэй». Но для каждого непредубежденного наблюдателя ясно, каким беспомощным оставался тогда Ляодун, который атаковали с одной стороны сяньби, а с другой — войска Когурё.
Цуй Би проявлял изворотливость, стараясь столкнуть Когурё, дуань и юйвэнь с их очевидным конкурентом Муюн Гуем. Именно на те тревожные дни, когда в 319 году Цуй Би сколачивал коалицию, и приходится прибытие на Ляодун посольства сушеней. Более нелепую ситуацию для поднесения «дани» трудно вообразить, если учесть, что влияние китайцев на Ляодуне в то время было полностью сведено на нет. Ясно, что сушени после некоторого перерыва опять выступили в своей традиционной роли племени, призванного самим фактом прихода своего посольства поднять престиж очередной в истории Китая личности.
Учитывая, что Цуй Би в борьбе с Муюн Гуем удалось привлечь на свою сторону Когурё, соседа сушеней на юге Маньчжурии, организовать прибытие посольства не составляло труда. Цуй Би, как можно догадаться, пре[1]следовал при этом по крайней мере три цели: поднять свой престиж как главы наспех сколоченной коалиции, запугать, если это вообще можно вообразить, вождя сяньби Муюн Гуя и, наконец, следуя по стопам Ван Мана и Сыма Чжао, основать на севере страны собственную династию. А пока ему не оставалось ничего другого, как с помощью даров сушеней, демонстрируя перед Юань-ди, основателем восточноцзиньской династии, свое влияние на севере, отослать подарки на берега Янцзы, тем самым столь своеобразным способом приветствовать возрождение династии Цзинь. На сей
[18]
раз, однако, сушени не помогли очередному честолюбцу. Когда победа, кажется, была сов[1]сем близка и войска коалиции Цуй Би окру[1]жили столицу Муюн Гуя Цзичэн (современный Цзиньсян, провинции Ляонин), вождю сяньби неожиданно удалось поссорить своих противников, а затем, разгромив их, заставить умолять о мире. Цуй Би пришлось бежать в Когурё и расстаться навсегда с головокружительными замыслами. Что касается Ляодуна, то этот район вошел затем в состав владений Муюн Гуя. Так закончился очередной выход сушеней из небытия дальневосточной истории.
То, что их посольство на Ляодун было спровоцировано Цуй Би, подтверждает факт отсутствия упоминания о «дани» сушеней вплоть до конца династии Восточная Цзинь. К тому же вообще остается не ясно, на самом ли деле сушени приходили на Ляодун, ибо стрелы, принесенные ими, почему-то напоминали по форме те, что использовались в самом Китае.
Разница заключалась лишь в том, что стрелы сушеней были изготовлены из камня, китайские же — из металла. Следующее появление сушеней отмечено в источниках, в том числе в «Цзинь шу», в перечне знаменательных событий 330 года н. э. и связано с примечательными обстоятельствами.
Посольство сушеней прибыло на сей раз в г. Сянго (современный Шуньдесянь, провинции Чжили) к Ши Лэю, новоявленному императору, хунну по национальной принадлежности, который по собственной инициативе провозгласил установление новой династии Поздняя Чжао. Поскольку на этот же год приходятся многочисленные сообщения о прибытии со всех сторон Поднебесной ко двору Ши Лэя посольств соседних народов, которые, если верить записям в хрониках, торопились пре[1]поднести «дань», то возникает желание разобраться и на сей раз в закулисной стороне дела. Начало сюжета восходит к 318 году н. э., когда умер Лю Цун, главный инициатор раз[1]грома государства Западная Цзинь и основатель новой династии Поздняя Хань. Трон через некоторое время занял один из его военачальников генерал Лю Яо, который перенес столицу в Чанъань и назвал свое государство Раннее Чжао. Он-то и назначил одного из представителей хуннокой знати Ши Лэя, в не[1]давнем прошлом служившего с ним, гуном Чжао. Однако Ши Лэя, человека честолюбивого и претендующего на большее, такой оборот дела явно не устраивал, и он вскоре провоз[1]гласил себя императором, обосновавшись в г. Сянго. Свое государство он назвал Позднее Чжао. Таким образом, царство Поздняя Хань распалось на две части, предопределив неизбежность столкновения двух генералов-соперников, которые не могли смириться с тем, что их власть в Северном Китае небезраздельна.
Так оно и случилось. Через 9 лет, в 328 году Лю Яо направил свою армию к столице Ши Лэя г. Лоян и осадил его. Однако удача не сопутствовала ему — войска Ши Лэя нанесли сокрушительное поражение армии Лю Яо, сам он попал в плен и был казнен. Династия Ранняя Чжао прекратила свое существование, а Ши Лэй стал единственным правителем на севере Китая. Вот тогда-то в 330 году он по совету своих приближенных принял новый титул хуанди и занял императорский трон. Первая задача, которая встала перед ним, заключалась, как обычно, в обеспечении популярности новой династии и внутри страны, и среди соседей. Ши Лэй объявил амнистию, отдал приказ о прощении преступников, осужденных менее чем на 3 года, отменил для всех налоги на недоимки за предшествующий год и торжественно провозгласил новую эру правления — цзянь-пин. Его приближенные стали распространять по империи слухи о чудесных явлениях: в Цзинь, оказывается, сразу же вы[1]росли деревья с необычайно переплетенными ветвями, в Ваньсяне на листья травы и деревьев выпала сладкая роса. Счастливые знамения должны были продемонстрировать высокие качества нового правителя и благосклонность к нему Неба. Что касается внешнеполитических акций, то в главе 105 «Цзинь шу» не случайно отмечается внезапный поток посольств соседей Позднего Чжао, желающих, как говорилось в таких случаях, «получить справедливость». По отдельным намекам источника можно догадаться, что большинство их организовали или спровоцировали лазутчики двора Ши Лэя. И вот уже в Лоян со всех сторон доставляются необычайные «туземные продукты» — редкие ценности, удивительные животные, в том числе белые антилопы, белые фазаны и белые зайцы. В такой обстановке сушени, разумеется же, не могли не прийти и не поднести свои знаменитые стрелы и их каменные наконечники. В 330 году посольство сушеней действительно прибыло ко двору и преподнесло свой традиционный дар. Сушени снова, в который уже раз, терпеливо выполни[1]ли предназначенную им восточными традициями роль.
Счастливые предзнаменования, которые так кстати осенили начало правления новой династии выходцев из знати народа хунну, не благоприятствовали, однако, прямому наследнику Ши Лэя, его сыну Хуну. Императорский трон вскоре самозванно занял один из старых сподвижников Ши Лэя, его племянник Ши Цзилун, или, как его называли, Шиху, представитель правящей верхушки хуннского племени цзе. С его именем связывается в «Цзинь шу» и ряде других источников очередное, после длительного перерыва, упоминание племени сушень. Если суммировать не очень многочисленные и небогатые сообщения о прибытии посольства сушеней ко двору Ши Цзи-луна, то
[19]
станет очевидно, что события развивались следующим образом. В 335 г. н. э. этот правитель Позднего Чжао перенес свою столицу в город Е (современный Чжандесянь, провинции Хэнань). Перед Ши Цзилуном, как и перед его предшественником Ши Лэем, возникла проблема возвеличения своего восшествия на престол. Поскольку на его глазах развертывалась «операция» по заманиванию посольств соседей чиновниками Ши Лэя, то Ши Цзи-лун решил не мудрствовать лукаво и по-военному прямолинейно «спровоциро[1]вать» прибытие посольства сушеней. Земли их располагались, согласно представлениям чиновников двора, в 15 000 ли на северо-восток от Е. И действительно, послам сушеней потребовалось целых 4 года (примечательно — ровно столько времени прошло после захвата трона Ши Цзи-луном), чтобы добраться до Хэнани и принести в Е подарки из каменных наконечников и стрел, изготовленных из дерева ку.
Сушени, поднося «дань», будто бы так объяснили причину своего решения совершить столь продолжительное путешествие: им бросилось в глаза, что их коровы и лошади три года подряд спали, обратив головы на юго-запад. Сушени поняли такое явление как явный при[1]знак того, что именно в тех местах находится могучая страна. Вот почему они и пришли ко двору Ши Цзи-луна. Что касается того, как Ши Цзи-лун намеревался использовать факт преподнесения «дани» сушенями, то в главе 96 «Цзичжи тунцзянь» сохранилось описание одного из эпизодов, проливающих свет на эти обстоятельства. Оказывается, Ши Цзи-лун, очевидно, в том же 340 году, по совету главного секретаря Ван Во, для возвеличения своего могущества и устрашения одного из потенциальных соперников повелел послать стрелы из дерева ку и каменные наконечники сушеней хуннскому вождю племени шухань Ли Шоу.
Намерения Ши Цзи-луна очевидны — подарок соседу демонстрировал, насколько далеко распространялось благотворное влияние его как высокосовершенного и могучего правителя империи Поздняя Чжао. История эта, может быть, и не заслуживала бы столь подробного описания, если бы не финал ее. Ли Шоу, конечно, превосходно знал, что представляет собой генерал-император Ши Цзи-лун, чтобы, получив от него многозначительный дар, с иронией бросить в ответ фразу, которая прозвучала в стиле классических канонических записей о «варварах» китайских династийных хроник: «Послы племени цзе (император Ши Цзилун, как отмечалось ранее, был вождем хуннского племени цзе.— В. Л.) принесли нашему двору и предложили нам дань — из стрел ку!»
Более исчерпывающе при всем желании невозможно обрисовать истинное значение для соседей правителя Ши Цзи-луна с его дутыми амбициями.
Итак, сушени в случае, если они действи[1]тельно приходили в Е в 340 г. н. э., как и много раз ранее, были спровоцированы или, если сказать деликатнее, приглашены на поднесение подарков. В свете сказанного есть ли смысл вообще дискутировать по вопросу, представляют ли стрелы и наконечники сушеней «дань» или «подарки». В заключение нельзя не обратить внимание на тот факт, что в «Цзинь шу» хронология предоставления даров велась по годам правления императоров Западной или Восточной Цзинь, хотя они во многих случаях не имели никакого отношения к прибытию послов сушеней ко дворам тех государств, которые возникли на потерянных для китайцев землях севера страны. Здесь в действие вступали все те же каноны, которые не позволяли замечать то, что неприятно видеть. Однако если рассеять туман традиций летописания, то станет очевидным факт господства в послеханьское время в бассейне Хуанхэ и прилегающих к нему на севере рай[1]онах центральноазиатских народов хунну и сяньби, а также Когурё (в последнем случае имеются в виду Ляодун и Южная Маньчжурия).
Последние два прихода посольств сушеней с дарами относятся ко времени Южных и Се[1]верных династий. Первый визит датируется одиннадцатым месяцем 3-го года эры правления дамин сунского императора Сяо У-ди, т. е. 459 г. н. э. В главах 6 и 97 хроники «Сун шу» указывается, что этот год примечателен прибытием посольства Когурё, которое преподнесло в дар туземные продукты, и визитом послов сушеней. Последние пришли издалека, ибо им, как отмечается, пришлось «повторно объясняться», т. е. неоднократно расспрашивать о дороге. Сушени подарили Сяо У-ди стрелы из дерева ку и каменные наконечники. Если учесть, что в тот же год «Западная область», т. е., по-видимому, Восточный Туркестан, прислала танцующих цирковых лошадей, то можно не сомневаться в закулисной стороне и подоплеке прибытия посольств: Сяо У-ди потребовалось поднять свой престиж. В связи с этим нельзя не обратить внимание на одну примечательную деталь: в главе 6 «Сун шу» указывается, что сушени сами поднесли «дары», а в главе 97, где собраны сведения о Когурё, сообщается, что стрелы и наконечники дарили Сяо У-ди когурёсцы, а не сушени.
Следовательно, учитывая традиции, невозможно отделаться от впечатления, что Когурё не[1]двусмысленно демонстрировало Сун свою значимость, посылая им стрелы сушеней. Но составители «Сун шу», фальсифицируя факты, представили дело так, что сушени сами пре[1]поднесли дар сунскому двору. Знакомые по ка[1]нонам махинации, которые вскрываются в данном случае лишь потому, что составители «Сун шу» не свели концы с концами. Они не
[20]
заметили, как может быть разоблачена их хитрость при анализе записи в разделе о Когурё.
Кроме того, могли ли в самом деле сушени сами, преодолев территорию такого могущественного корейского государства, как Когурё, преподнести подарки самостоятельно? По-видимому, нет, ибо еще ранее, в годы правления Дай У-ди, императора династии Поздняя Вэй, границы Когурё на севере достигали пределов территории, занятой ранее племенем фуюй, соседей сушеней. Владетель Когурё Чжан Шоу[1]ван, как сообщается в главе 100 «Вэй шу», не без гордости поставил в 435 г. в известность посла Дай У-ди Ли Ао, что на юге границы его государства отстоят от Ляодуна на 1000 ли и доходят до пределов «Малого океана», на востоке достигают Чжачэн (современ[1]ный Цзюйцзыцзе). В такой ситуации ничего, кроме недоумения, не может вызвать запись в «Сун-шу» о том, что Ли Ао прибыл к Чжан Шоу-вану, который уже 47 лет занимал пре[1]стол, с задачей ни больше, ни меньше как сообщить ему предписание о назначении его от имени вэйского императора своим вассальным правителем Когурё. Такая фальсификация могла просто обезоружить, если бы не постоянные встречи с ее образцами в других случаях. Подарок правителя Когурё Чжан Шоу-вана стрел и наконечников сушеней императору Сун Сяо У-ди следует рассматривать как знак могущества и полной независимости Когурё от Китая.
Многоопытный знаток традиций Поднебесной, Чжан Шоу-ван, один из правителей «восточных иноземцев», не может не вызвать восхищения в свете такого деликатного дипломатического маневра. Если же послы Когурё и сушеней прибыли вместе, то такой совместный визит тоже вряд ли мог настроить на оптимистический лад Сяо У-ди, что бы ни записали затем услужливые летописцы двора.
Последнее посольство сушеней прибыло в Китай почти через 100 лет — в седьмой месяц 5-го года эры правления тяньбао династии Северная Цзи, т. е. в 554 году н. э. В «Сун шу» помещена скупая строчка о приходе посла к императору Вэнь Сюань-ди с уплатой «дани».
Но достаточно припомнить, что такое событие относится ко времени, когда прошло 4 года после свержения Вэнь Сюань-ди своего предшественника, императора династии Восточная Вэй Сяо Цзин-ди. Разве не те же 4 года по[1]требовались сушеньским послам, чтобы достигнуть Е — столицы незадачливого хвастуна Ши Цзи-луна, правителя династии Поздняя Чжао?
Не случайно, возможно, и прибытие ко двору Вэнь Сюань-ди в ту же эру правления тяньбао двух посольств северо-восточных соседей сушеней — племени шивэй. Странно, однако, что они прибыли ранее сушеней, расположенных ближе к Северному Китаю: в 552 и 553 годы. Из-за отсутствия фактов нельзя утверждать с уверенностью, но можно предполагать, что прибытие посольств сушеней и шивэй как всегда спровоцировали догадливые подданные жаждущего славы и могущества Вэнь Сюань-ди.
Есть, наконец, еще одно веское соображение, которое усиливает сомнения в добровольности визитов сушеней в двух последних случаях, если эти визиты вообще исторический факт, а не фальсификация придворных канцелярий, главная забота которых всегда состояла во все[1]мерном поднятии престижа владык трона Поднебесной. Дело в том, что, начиная со второй половины V века н. э., название «сушень» на страницах хроник нельзя не рассматривать как анахронизм, ибо в Китае тогда превосходно знали, что в тех местах, где, как считалось ранее, живут сушень — илоу, в действительности обитают уцзи или мохэ. Только особые, вряд ли благовидные цели заставили авторов летописаний вновь обратиться к легендарному имени. Они взывали к нему, надеясь, что оно, как и во многих случаях ранее, поразит воображение современников и увеличит политический капитал тех, кто в тот момент, по-видимому, остро нуждался в нем.
Выявленные выше и не допускающие иных толкований обстоятельства позволят со всей ясностью представить, какова истинная цена записям о подношениях «дани» императорским дворам Северного Китая сушенями и другими племенами юга Маньчжурии, а также Дальнего Востока, которые бесконечной чередой сменяли друг друга на протяжении нескольких веков. Ни о каком даже символическом подчинении их Китаю не может быть и речи. Сушени, действительно, иногда приходили в Китай, но или, как во времена Чжоу, «свирепствовали в сражениях с противниками», или направляли посольства, да и то лишь тогда, когда их «приглашали», а по существу провоцировали на ответный визит «вежливости». Итак, в стране, где символика давно стала нормой жизни, в том числе политической, появление сушеней с эпохи Чжоу превратилось в показатель «совершенства правителя».
В источниках танской и последующих эпох посольства сушеней больше не упоминаются. Причина этого не только в появлении нового самоназвания маньчжурских и дальневосточных племен — уцзи, но главным образом в воинственно-агрессивной политике правительства танской империи по отношению к народам северо-востока, которые, почувствовав силу, отбросили камуфляж и маскировку фиктивного подданства. Их больше не удовлетворяла «бумажная» зависимость далеких народов, по[1]рождение больного воображения тех, кто жаждал власти, и тех, кто подыгрывал им, создавая видимость подчинения. Армия Тан, приступая к активным действиям, нацелилась на первую жертву — государство Когурё.
Обратимся к анализу сведений, которые позволяют представить, кто же такие легендар-
[21]
ные сушени, они же илоу, чье особое место в истории Восточной Азии не подлежит сом[1]нению.
Прежде всего следует решить вопрос о том, где расселялись сушени и какие народы соседствовали с ними. Указания в источниках о географии их страны предельно кратки, что еще раз свидетельствует о скудости сведений о центральных районах Маньчжурии и Даль[1]нем Востоке в первые века нашей эры. Известно, однако, что границы территории, занятой племенами сушень, на юго-западе и юге соприкасались с владениями древних корейских племен — северных и южных воцзюй, а также фуюй (пуё). Земли фуюй на юге отделяли владения сушеней от бассейна р. Ялу, центра Когурё, а на западе — от степняков-кочевников сяньби, расселявшихся вдоль Шара-Муре[1]ни и Ляохэ. На север и северо-восток от всех этих территорий как раз и находилось «древ[1]нее владение сушень». Как сообщается в главе 17 «Шань хай цзина», горы Буханыпань располагались в пределах страны сушеней.
Название их явно происходит от тунгусского слова «букан» — «небо». Следовательно, горы назывались аборигенами «небесными». Очевидно, речь идет о горной стране Чжанбайшань или, по другой транскрипции, Тайбашань и Тутайшань (современное название — Чанбай[1]шань). От фуюй страну сушеней отделяло пространство в 1000 ли, которое путешественники преодолевали, по одним сведениям, за 60, а по другим — за 10 дней. Если, однако, фуюй занимали в припограничном с сушенями районе земли в долине р. Альчук, то приведенные цифры вызывают сомнения. Очевидно, люди Сыма Чжао, чтобы придать большую значимость событиям, намного отодвинули от фуюй границы земли сушеней и увеличили количество дней, необходимых для перехода к ним. От Ляодуна границы страны сушеней отстояли на 1500 км (отсчет, очевидно, велся от центра района — Ляояна). Сначала северные пределы их владений оставались неизвестны[1]ми, но затем появились сообщения о том, что они достигали р. Жошуй. По заслуживающему доверия мнению X. Икэути, речь шла об отрезке р. Сунгари в районе Саньсина, где она и теперь принимает в свое русло р. Хурху.
Центральный район, занятый племенами сушень — илоу, располагался где-то в районе Нингуты. Определив ориентировочно положение ряда географических пунктов, с помощью которых приоткрывается хоть какая-то перспектива очертить контуры южных границ страны сушень, обратимся к сведениям о пре[1]делах ее на востоке и западе. Что касается простирания ее в восточном направлении, то указания здесь достаточно определенные — там земли сушень ограничивались водами Желтого моря. Нет серьезных оснований сомневаться в том, что речь идет в данном случае о Японском море, омывающем прибрежные районы Дальнего Востока. На западе и северо-западе сушени граничили, как отмечает «Цзинь шу», с территорией племени коумохань, которое упоминалось ранее в связи с прибытием его посольства ко двору императора У-ди. Но в таком случае ближе к сушеням расселялись еще два племени, посольства которых в то же время как будто бы прибыли к У-ди,— бэйли и янюнь, а за коумохань находились владения ицюнь. И все-таки сказать что-либо определенное о местах расселения бэйли, янюнь, коумо[1]хань и ицюнь невозможно, поскольку расстояния и время пути к ним от столицы У-ди явно неправдоподобны и приведены лишь для того, чтобы, как всегда, поразить воображение потомков рассказами о том, насколько далеко распространялись слухи о великих добродетелях основателя новой династии. Можно лишь высказать предположение, что четыре племени владели, вероятно, долиной р. Нонни и землями в верховьях Амура. Помимо того в главе 97 «Цзинь шу», в разделе, посвященном бэйли и трем другим племенам, упоминаются еще шесть «владений», которые в 290 г. н. э. прислали посольства в район Ляодуна к главе «дунъи цзяовэя» Хэ Куну. В тексте, однако, перечисляются лишь названия «владений» и имена их вождей — Моунуго (вождь Ичжи), Вэйлимолуго (вождь Шачжичэньчжи), Юйли[1]вэйлиго (вождь Цзямоучэньчжи), Пудуго (вождь Иньмо), Шэнюйго (вождь Малу), Ша[1]лоуго (вождь Шаюцзя). Каждую группу при[1]бывших возглавляли главный и второй послан[1]ники. Вряд ли правдоподобно, в свете известного о сушенях, замечание летописца о том, что посольства прибыли с желанием «обратиться к просвещению». Гораздо важнее представить, какие из расположенных к северу, северо-западу или северо-востоку от сушеней земли могли заселять перечисленные шесть племен. Задача эта пока неразрешима.
Отсутствие в хрониках сведений о том, насколько далеко протянулась страна в северном направлении, создает, на первый взгляд, непреодолимые затруднения в определении названий северных соседей сушеней. Тем не менее, если привлечь для решения этой сложной проблемы краткие указания о северо-восточных землях, содержащиеся в ханьских географических трактатах «Шань хай цзин» и «Хуайнаньцзы», то можно хоть в какой-то степе[1]ни, весьма приближенно попытаться осветить поставленный вопрос. Так в раздел «Хайвай бэйцзин» «Шань хай цзина» включено описание Сюаньгуго — «страны черноногих людей», Маоминьго — «страны волосатых людей» и
[22]
лаоминь — «народа лао» 6. Южнее других рас[1]полагалась земля «черноногих людей». Ее на[1]звание, как сообщается, связано с черным цветом нижних конечностей и с тем, что эти люди «одеты в рыбу», т. е. в одежду из обработанных шкурок рыб. Вообще же у китайцев север ассоциируется, согласно канону о пяти элементах, с черным цветом — и отсюда может идти название «черноногие». Но четкое упоминание о такой характерной черте, как одежда из рыбьих шкурок, явно перекликается с позднесредневековыми известиями о «рыбьекожих» обитателях севера Дальнего Востока, и поэтому трудно отказаться от мысли, что речь идет о каком-то народе Амура. Севернее «страны черноногих людей» располагались земли «волосатых людей». При описании отмечено, что на теле их растут волосы. Такой признак в характеристике дальневосточных обитателей на[1]столько специфичен, что сразу припоминаются айны, заселявшие в древности приустьевую часть Амура, Сахалин и Хоккайдо. Не меньший интерес вызывает упомянутый вслед за тем в «Шань хай цзин» народ лао. Согласно исследованиям К. Сиратори, слово «лау» в языке гиляков означает «великая река», и поэтому, возможно, под названием «народ лао» подразумеваются именно гиляки, которые заселяли нижнюю часть долины Амура. Сообщения трактата «Шань хай цзин» подкрепляются краткими указаниями «Хуайнаньцзы», составленного дядей ханьского князя У-ди Мой Анем. Среди народов, населявших, по его мнению, пространства между северо-востоком и юго-востоком, он, помимо «гигантов», «чернозубых» и «воспитанных», упомянул тех же «черноногих», «волосатых» и лао. Именно последние три народа следует, за неимением более достоверных сведений, признать за соседей сушеней на севере. Они, вероятно, заселяли низовья Сунгари, Уссури и долину Амура до его устья, и в их описаниях смутно угадываются черты гольдов, айнов и гиляков, сведения о которых стали более определенными лишь через тысячу лет.
В «Цзинь шу» при общей оценке территории, которую контролировали сушени, отмечается, что земли их простирались с востока на запад и с севера на юг на несколько тысяч ли. Климат и почвы в этих местах холоднее, чем в стране племени фуюй. Описания географических особенностей скупы и однообразны. В источниках говорится лишь о том, что в стране сушеней преобладают скалистые труднопроходимые горы и узкие долины. Путешествие по ней небезопасно, ибо дороги там круты, «коварны» и затруднены для проезда на телегах и лошадях. Кроме того, из страны сушеней удобно плавать на судах, чем сушени и пользуются, осуществляя военные вторжения в пределы племени северных воцзюй, по другому названию — чжигоулоу. Таких намеков достаточно, чтобы, без особой боязни допустить грубую ошибку, прийти к твердому убеждению, что сушени расселялись к востоку от степей Маньчжурской равнины в покрытой дремучими лесами северной половине Восточно-Маньчжурской горной страны.
Из общих сведений к важнейшим, с точки зрения этнической характеристики, относятся беглые замечания «Хоу Хань шу» и «Вэй чжи» о языке сушеней. В той и другой хронике совершенно точно определяется, что по языку этот народ отличался от всех окружающих восточных иноземцев, т. е. главным образом тех, кто относился к корейским родоплеменным группам вэймо — фуюй, воцзюй, когурё. С тем большим основанием можно говорить о несходстве языка сушеней с языком кочевых племен степей Внутренней Монголии — сяньби. По всей видимости, строй языка сушеней был тунгусо-маньчжурским. Речь сушеней обращала на себя внимание краткостью и сдержанностью. По физическому типу сушени не отличались, как сообщает «Вэй чжи», от фуюй. Экономика их характеризовалась разносторонностью занятий населения, динамичностью изменений в них, что можно объяснить оживленными контактами с соседними культурно-хозяйственными ареалами Дальнего Востока. Некоторые различия в описании хозяйства разными источниками можно объяснить также тем, что записи о сушенях делались в разное время, да и племена их могли специализировать свои занятия в зависимости от особенностей географического окружения и климата, далеко не одинаковых в разных местах центральных районов Маньчжурии. Сушени умели обрабатывать землю, сеяли пять родов хлеба, т. е. пшеницу, гаолян, клейкое просо, рис и сою. Из домашних животных особенно любили разводить свиней, но кроме того содержали быков и лошадей.
Из ремесел развивали, очевидно, ткачество, поскольку в источниках отмечается умение сушеней делать из волокон нити и изготовлять пеньковые ткани. Сохранились также сведения о том, что ткань изготовляли из щетины свиней и пряли волосы для приготовления материи. Возможно, в последнем случае имеется в виду шерсть овец, но утверждать такое с уверенностью нельзя, ибо в «Цзинь шу» отмечается, что овец сушени не содержали. Важнейшей отраслью хозяйства оставалась охота, в частности, промысел пушного зверя, в особенности популярного на востоке Азии
_________
6. Wada S. Op. cit; см. также: Halde Т. В. dn. Descrip[1]tion of the Empire of China. Vol. II; Schlegel G. Pro[1]blemes geographiques. Les peuples etrangers chez les hi[1]storiens chinois 1. Fou Sang-Kouo.— "Toung Pao", 1892, vol. Ill, N 2; XI. Hiouen — kouo — kouo.—"Tung Pao", 1893, vol. V, n. 5.
[23]
соболя. Жили сушени разрозненными и не очень многочисленными родоплеменными коллективами. Возглавляли их вожди, которые ко времени эпохи Цзинь уже не избирались соплеменниками, а передавали свою власть по наследству от отца к сыну, что свидетельствовало о господстве патриархально-общинного строя. Ранее независимые друг от друга, к концу III века н. э. они подчинялись «Великому предводителю», т. е., очевидно, главе обще[1]племенного союза, настоятельная необходимость создания которого в тот период диктовалась политической обстановкой на Дальнем Востоке. В источниках содержатся факты, свидетельствующие о появлении на рубеже II и III веков н. э. социального и имущественного неравенства. Так, жилище семьи вождя отличалось значительными размерами, а при захоронении знатных членов рода количество погребальной пищи увеличивалось во много раз. О появлении частной собственности, возможно, свидетельствует также предание казни каждого, кто совершит грабеж, чего, впрочем, согласно сообщениям путешественников, в стране почти не наблюдалось. Приобретение повозки или колесницы считалось признаком большого богатства. Своей письменности сушени не имели и поэтому при заключении договоров довольствовались словесными уверениями. Вообще так называемый «восточный церемониал» оставался сушеням неведом, поэтому считалось, что законы и обычаи у них не установлены. В частности, удивление и даже осуждение путешественников вызывало отсутствие при потреблении пищи обычных среди восточных иноземцев кухонных досок, т. е. небольших столиков цзу и сосудов для мяса доу. Соседей шокировало также «некультурное обращение» друг с другом, не очень опрятный вид тела и одежды сушеней. Следует, однако, иметь в виду, в каких тяжелых условиях жили сушени, и учитывать сравнительно низкий уровень развития экономики и культуры, достигнутый ими к первым векам нашей эры.
Приступая к описанию обычаев и образа жизни сушеней, как они представлялись участникам военной экспедиции Ван Ци и лазутчикам, подосланным к илоу, замыслившим захват власти Сыма Чжао, следует прежде всего остановиться на тех атрибутах, которые доставили славу древнему народу Дальнего Востока,— на древках из дерева ку и наконечниках из камня ну. Традиционность под[1]несения их в дар соседям, в том числе Китаю, сделала и то и другое своего рода «визитными карточками» сушеней. Судя по разрозненным и порой противоречивым сведениям, рассыпанным по летописным источникам, дерево ку напоминало так называемый «волшебный прут», иначе говоря, тысячелистник сибирский. Внешне ку походило на цзинь — кустарник терновника красноватого цвета, а листья напоминали листья вяза 7. Китайцы назвали дерево ку сушеней «чживэйцзин», что означает в буквальном переводе «фазаний хвостатый терновник». Высота его достигала 3,5 метров. На прутьях терновника не было колючек. Древесина ку не случайно привлекала внимание воинов и охотников сушеней: она отличалась исключительной прочностью и упругостью, а также, что не менее важно для поддержания в постоянной готовности боевого снаряжения, почти не подвергалась воздействию колебаний влажности воздуха. Что касается территории распространения ку, то деревья такого типа наиболее характерны для Дальнего Востока.
Заросли его упоминаются в источниках при описании танскими авторами Ляодуна, а так[1]же юга Маньчжурии, в частности, священных небесных гор — Буханынань. Здесь на северных густо поросших лесами склонах в местности Хэйсунлин («Лес черных сосен») росло множество деревьев ку. Обычно они встречались у подножий скалистых обрывов, где рос также орешник. Следует, однако, подчеркнуть, что ку обычны для территории Маньчжурии, очевидно и для прилегающих к ней районов Дальнего Востока — Приморья и Приамурья.
Ареал распространения дерева ку охватывал, по-видимому, также некоторые районы бассейна Хуанхэ. Известно, например, что в Шанъси и Шэньси, местах противоборства степных кочевников Центральной Азии и земледельцев, из прутьев ку любили плести корзинки, после обработки («изгибания») изготовляли заколки (Для волос. Однако лишь в Маньчжурии и на Дальнем Востоке и только сушени использовали прутья из дерева ку для изготовления древков стрел. Традиция такая сохранялась долго. Во всяком случае в VII веке и позже мохэ, потомки легендарных сушеней, и те, кто составил затем ядро чжурчженьского племенного союза, согласно летописным известиям, к востоку от одного из мохэских племен (фу[1]не), продолжали применять древки с каменными наконечниками. Дерево ку не случайно использовалось для древков стрел — подобное оружие считалось на востоке непревзойденным по силе и прочности. Воины полагали, что такие древки лучше по качеству, чем изготовленные из бамбука ли или дерева цзинь.
Не меньший интерес вызывает ответ на вопрос о том, что представлял собой камень ну. Несмотря на противоречивость сведений древних авторов, включая эпоху Мин, можно все же воссоздать особенности сырья, которое
_____
7. Подборку сведений о ку см.: Bretschneider E. Botanicum Sinicum. Vol. II. The Botany of Chinese classics. Shanghai, 1892.
[24]
использовалось народами Дальнего Востока для изготовления наконечников стрел, поскольку камень ну и в последующие эпохи привлекал внимание аборигенного населения. Камень ну хранился как необычное сокровище, и его можно было купить только за определенное количество зерна или за отрез материи.
Видимо, за ну следует, во-первых, принять многоцветные халцедоны и яшмы (не их ли в летописи называют «изумрудами»?), которые распространены в пристенной части долины Сунгари и по р. Хурхэ. Согласно преданиям, в ну превращались кусочки сосновой смолы, которые попадали в воду и находились в ней тысячелетия, пока не приобретали свойства камня. Цвет такого камня варьировал от черного до желтого и белого, а при осмотре внутренней структуры камня в ней нетрудно было отметить прожилки, напоминающие волокна древесины. Камни такого рода были настолько прочны, что оставляли царапины на железе, поэтому их использовали для заточки лезвий режущих инструментов из металла.
С помощью ну можно было просверливать отверстия в других породах камня. Ну описывались также как один из сортов окаменевшего дерева черного и темно-голубого цвета. Такая разновидность ну появлялась, согласно преданиям, после того как ветки вязов и сосен попадали в воду и в течение очень многих веков волны роки носили их, пока они не окаменевали. Мастера по изготовлению наконечников отыскивали окаменевшую древесину, отдавая предпочтение сорту каменного вяза перед несколько уступающими по качеству ветками окаменевшей сосны. Во времена господства в Маньчжурии чжурчженей окаменевшее дерево — мухуаши — добывалось в дельте Амура, поскольку местные жители ценили такой сорт камня за его остроту и твердость — наиболее подходящие качества при изготовлении наконечников стрел. Шину, как и каменные ну, считались в древние времена легендарных сушеней одним из экзотических товаров чжурчженей. Добывание окаменевшего дерева было для жителей Амура делом не простым — оно сопровождалось сложным ритуалом, восстановить детали которого теперь невозможно. Известно лишь, что прежде чем отправиться на сборы сырья для наконечников, людям, согласно строгим правилам, следовало «помолиться богам». Есть достаточно достоверные сведения, что камень ну добывался в коренных отложениях горных пород. Где-то на северо-западе страны, вероятнее всего в низовьях р. Хурхи или в бассейне Сунгари, ниже района современного г. Саньсина, по рассказам самих сушеней, располагалась гора, на склоне которой можно было найти камень, отличающийся та[1]кой твердостью, что изготовленные из него наконечники стрел рассекали железо. Перед походом к горе за таким камнем каждый обращался с мольбой к духам. Очевидно, к значительно более позднему времени относятся сведения о том, что ну представляет собой камень, который после «обжига» становится особенно крепким и острым. Возможно, речь в данном случае идет о железной руде, о ее плавке и последующем изготовлении из металла «сильных и острых» инструментов.
В хрониках сохранились описания стрел и луков сушеней — их главного оружия на охоте и войне. Длина стрел составляла 1 фут 2 дюйма, 1 фут 5 дюймов или 1 фут 8 дюймов. Луки изготовлялись сушенями из дерева таи, т. е., очевидно, из черной березы, широко распространенной в Маньчжурии, Корее, в Приморье и Приамурье. Благодаря особым качествам черной березы луки отличались исключительной мощностью, упругостью, прочностью, крепкостью; стрела стремительно соскальзывала с тетивы и сохраняла убойную силу до 400 шагов. Длина луков составляла 3 фута 5 дюймов или 4 фута. По дальности боя луки и стрелы сушеней не уступали такому совершенному типу оружия, каким считался на востоке Азии рубежа нашей эры арбалет, или самострел.
Эффект оружия многократно увеличивался от того, что стрелы перед тем, как пустить их в дело, опускали в яд. Раненный отравленной стрелой непременно погибал. Сушени довели до совершенства искусство владения луком и на охоте или па войне били почти без промаха, наводя ужас на врагов. Понятной поэтому становится запись в хронике о том, что соседи боятся их луков и стрел. Достаточно сказать, что при стрельбе они могли намеренно целить и попадать в глаз человеку. Если стрела поражала врага, то такое древко старались вернуть назад, чтобы снова использовать его в бою.
В завершение сюжета, связанного с описанием военного снаряжения, следует сказать, что в сражениях воины сушеней защищались «доспехами» из шкур животных, железа, костей и рога. Следовательно, они умели изготовлять панцири из костяных и железных пластинок.
Земля сушеней, как следует из кратких записей в летописях, славилась на востоке Азии соболями и красной яшмой. Там же произрастало дерево лочан, из коры которого после обработки сушени получали волокнистый материал, пригодный для прядения и последующего изготовления из его нитей материала для одежды. Правда, согласно записям в «Цзинь шу», лочан произрастал в землях сушеней лишь тог[1]да, когда в Поднебесной всходил на трон правитель величайших добродетелей, но подобного рода лесть государю со стороны составителей династийных хроник слишком тривиальна, что[1]бы обращать на нее внимание.
Несмотря на предельную краткость летописных текстов, посвященных описанию сушеней, их образ жизни и быт представлены в ярких и и живых картинах. Поселки сушеней распола-
[25]
гались среди гор в глубоких долинах. Из-за холодной зимы и жаркого лета им приходилось пользоваться двумя разновидностями жилищ. Когда выпадал снег и наступали морозы, семьи занимали теплые углубленные в грунт землянки. Чем глубже вырывался котлован для такой постройки, тем почетнее считалось жилище. Однако подобное могли себе позволить лишь «богатые». Порой землянки сооружались так, что, спускаясь в котлован, приходилось переступать девять ступенек. Очаг располагался посредине, и в него сваливали все отбросы.
Работая или отходя ко сну, обитатели жилища занимали места вокруг очага. Летом проживание в душных, прокопченных за зиму землянках становилось невозможным, поэтому семьи переселялись в постройки, которые называются в «Цзинь шу» в буквальном пере[1]воде «гнезда на деревьях». Но как неверен перевод «живут в пещерах», в «ямах», или в «дуплах» вместо «живут в землянках», так и здесь подразумеваются, по-видимому, легкие дома на сваях, срубленные из дерева, или простые шалаши. Поселки сушеней не окружались стенами крепостного типа, поскольку, как отмечается, племена «благополучно ладят меж собой и даже не нападают друг на друга». Зимняя одежда сушеней резко отличалась от лет[1]ней. Сильные морозы и ветры заставляли их облачаться в платья, изготовленные из холста или волос, а сверху надевать шубы, сшитые из свиных шкур. Неприкрытые части тела, вероятно, прежде всего лицо, предохранялись от опаляющего действия стужи несколькими слоя[1]ми свиного жира. Когда же наступала летняя жара, то вся лишняя одежда сбрасывалась и сушени ходили обнаженными, прикрываясь спереди и сзади полоской ткани шириной около 64 см. Поэтому, очевидно, владения суше[1]ней порой называли страной обнаженных. Что[1]бы до конца представить облик сушеней, следует подчеркнуть и такую важную энтографическую деталь: волосы они заплетали в косички. Сидеть любили «в позе цзицзюй», т. е. на корточках, поджав ноги, отчего вид их на[1]поминал чужеземцам веялку. Когда сушени ели мясо, то каждый полученный кусок помещали между ступнями ног. В зимнее время замерзшее мясо оттаивали несколько неожиданным способом — на него садились и прогревали теплом своего тела. В качестве посуды для варки пищи использовали глиняные сосуды типа ли, иначе говоря, триподы, которые давно вышли из употребления в других районах Дальнего Востока. В них входило несколько больше 4—5 л воды. Печей сушени не сооружали, а готовили еду прямо на очагах открытого типа. Воду брали не из колодцев, как их соседи, а, по-видимому, просто из ручьевили речек. Поскольку в стране отсутствовали залежи соли, сушеням приходилось восполнять недостаток ее в организме, потребляя болтушку из золы какой-то определенной породы дерева или плавника, который долгое время находился в воде. Точных указаний об этом в источниках нет.
Не меньший интерес вызывают довольно подробно описанные свадебные и погребальные обряды сушеней. Прежде всего следует заметить, что женщины племени до вступления в брак пользовались относительной свободой, из-за чего автор «Цзинь шу» с неудовольствием упомянул распущенные нравы сушеней. Однако он не мог не отметить целомудренности замуж[1]них женщин, заботливых отношений мужа и жены. Молодой человек, который надумал жениться, брал птичье перо и вставлял его в прическу своей избранницы. Девушка выражала свое согласие стать его женой тем, что оставляла перо в волосах. Затем «по обычаям вежливости» мужчине следовало жениться на избраннице. Если же девушку не устраивало предложение, то перо возвращалось незадачливому жениху. В летописях отмечается суровый, злой и даже свирепый характер сушеней. Такая нелестная характеристика обусловлена не только неистовством их в сражениях с врага[1]ми, но, по-видимому, главным образом отношением племени к пожилым людям и умершим. При благоговейном отношении к предкам в Китае и громадном значении, которое придавалось там культу мертвых, неуважительное от[1]ношение к старикам и безразличие к умершим не могли не поразить чужестранца. Действительно, сушени особенно ценили в соплеменниках силу и мужество, которые проявлялись в полную меру у людей, находившихся в расцвете сил. Старики же при суровой, полной невзгод жизни племени представляли обузу, почему ими, как записано в «Цзинь шу», «пренебрегали». Об умершем сушене «не печалились и не терзались», «не горевали и не рыдали». Однако внимательное изучение текста «Цзинь шу» показывает, что такое равнодушие к смерти близких объясняется отнюдь не бесчувствием и бес[1]сердечностью. Оказывается, заплакать над умершими отцом или матерью, женой, мужем или даже ребенком означало показать свою слабость и «потерять мужество». Вот почему сушеням приходилось сдерживать и прятать свои чувства. Особенно тяжело приходилось женщине: безгранична была печаль ее при смерти ребенка, горе терзало ее и при потере мужа. Следует к тому же учитывать, что, согласно сведениям из раздела «Восточные иноземцы» сочинения «Тайпин юйлань» (гл. 784), она, «овдовев, никогда более не выходила замуж». Погребальные церемонии сушеней со[1]стояли в следующем: умершего в день смерти уносили в глухое место, где выкапывали могилу. Тело помещали в саркофаг, сколоченный из бревен или досок, и опускали в яму. Затем на гроб клали предварительно зарезанных свиней. Они предназначались, как отмечалось в
[26]
«Цзинь шу», в качестве пищи для умершего. Положенные при захоронении обряды выполнялись с уважением, хотя и без оплакивания. Даже тело убитого за грабежи среди соплеменников не оскверняли, а помещали в гроб и закапывали в могильной яме. Некоторые дополнительные и важные подробности погребальных обрядов сушеней содержатся в «Тайпин юйлань». В этом сочинении уточняется количество свиней, которых приносили в жертву умершему как его погребальную пищу. Оказывается, после смерти богатых закапывали до тысячи животных, а когда умирал бедный — девять. Кроме того, засыпая могилу землей, сушени оставляли снаружи конец веревки, которую привязывали к гробу. На нее лили отвар, полученный при варке свинины. Такой обряд, очевидно, кормления умершего, выполнялся до тех пор, пока конец веревки не начинал гнить. В записи отмечается также, что обряды, связанные с памятью об умершем, выполнялись не через строго определенные промежутки времени. В заключение описания сушеней — еще два важных эпизода из почти полностью забытой политической истории их страны. Первый выясняется благодаря записям в «Вэй чжи».
Ханьский князь У-ди напрасно негодовал и выпускал гневные указы по поводу отсутствия посольств сушеней в годы его правления и вообще в эпоху Хань, поскольку самые северные из восточных иноземцев находились тогда в чрезвычайно сложных отношениях с фуюй, своими соседями на юге и юго-западе. Влияние фуюй в стране сушеней зашло настолько далеко, что последним пришлось выплачивать непомерную «дань». Притеснения фуюй к 220 году н. э. стали так унизительны и тяжелы, что сушени, народ свободолюбивый и гордый, восстали и до 226 года н. э. покончили с влиянием фуюй в своих землях. По-видимому, именно к этому времени и относится образование у сушеней племенного союза, во главе которого встал «Великий предводитель». Следовательно, в цервой четверти III века н. э. разложение первобытнообщинного строя, с одной стороны, и консолидация сушеньских племен — с другой, ограничили власть отдельных вождей. Логически рассуждая, можно прийти к выводу, что лишь подчиненные единой воле сушеньские племена могли ликвидировать влияние фуюй, а также успешно отразить последовавшие затем неоднократные попытки фуюйцев покорить их.
Второй эпизод связан с вторжением с территории Когурё в южные пределы земли сушеней военачальника Ван Ци, посланного в 245 году н. э. полководцем My Цю-цзянем, который по приказу императора Мин-ди преследовал государя Когурё. Ван Ци удалось пройти «очень далеко», до берегов «Великого моря».
Отряды агрессоров пересекли территорию, населенную племенами воцзюй, но затем столкнулись с отрядами сушеней. Возможно, действия Ван Ци на севере действительно были в какой-то мере успешными. О попрании сушеньских очагов самодовольно сообщалось в записи на каменной стеле, воздвигнутой на горном перевале в уезде Цзиань (бассейн Ялу). Однако эпизодическая военная операция не могла привести к серьезным последствиям. После ухода экспедиционного корпуса Ван Ци суше[1]ни по-прежнему продолжали господствовать на севере Дальнего Востока. В этой связи заслуживает внимания сообщение «Хоу хан шу» о постоянных грабительских нападениях сушеней на своих северных соседей на юге — воцзюй или чжигоулоу. Вторжения осуществлялись в теплое время года на судах, из-за чего воцзюй приходилось с наступлением лета скрываться в глубине ущелий неприступных гор. Дерзкие походы храбрых воинов сушеней приводили в трепет поселения соседних племенных союзов, прежде всего фуюй и воцзюй. Ответные военные акции не успокаивали суше[1]ней — они успешно отражали атаки соседей.
Судя по отдельным туманным намекам в источниках в последующее время сушени находились в дружеских отношениях с Когурё. Это государство достигло в тот период апогея своего могущества. Возможно, однако, совместный приход в Китай посольств Когурё и сушеней отражает в какой-то мере зависимое положение последних, но сказать что-либо определенное о их взаимоотношениях трудно.
Как уже указывалось, начиная с IV века название «сушень» исчезло, за исключением редчайших случаев, со страниц династийных хроник и разделов труда «Восточные иноземцы». Племена, заселявшие большую часть территории Маньчжурии, Приморья и Приамурья, ста[1]ли описываться в эпоху Поздняя Вэй как уцзи или во времена Суй и позже как мохэ 8. Ареал обитания их охватывал бассейн рек Нонни, Сунгари, Уссури, а также долину среднего и нижнего течения Амура, начиная от впаденияв него Сунгари. В западные пределы уцзи — мохэ включалась часть степной территории Маньчжурии — в «Бэй ши» и «Суй шу» упоминались как достопримечательность их страны озера с солоноватой и жесткой водой и солеными испарениями, из-за чего кустарники и деревья, произраставшие на берегах водных бассейнов, покрывались налетом соли. В «Синь Тан-шу» отмечалось, что на этой территории встречаются соляные ключи, а воздух тех мест горяч и прозрачен. Ничего подобного в сырых
_______
8. Сведения об уцзи и мохэ включены в гл. 100 «Вэй шу», гл. 94 «Бэй пш», гл. 81 «Суй шу», гл. 98 «Тан хуэй[1]яо», гл. 219 «Синь Тан шу», гл. 199 «Цзю Тан шу». Пе[1]реводы разделов об уцзи — мохэ из двух первых источников см.: Бичурин И. Я. Указ. соч.
[27]
и холодных землях Маньчжурии быть не могло, и, следовательно, речь идет о степных пространствах, расположенных к востоку от Внутренней Монголии, где, согласно «Бэй ши», уцзи соседствовали сначала с тюрками, а позже с киданями, с которыми они имели непрерывные столкновения. По мнению японского историка-востоковеда Вада Сэй, эта пограничная с докочевыми племенами зона располагалась где-то около современного оз. Чаган-нора, западнее городов Фуюй и Бодуне. Именно по этим местам, западной киданьской межой в обход территории соперника уцзи могущественного Когурё проходило в 477 году к вэйскому двору знаменитое посольство Иличжи, рассказ о чем последует далее. На юге уцзи соседствовали на довольно значительном расстоянии с Когурё, земли которого располагались теперь на севере в пределах, ранее занятых племенем фуюй, т. е. в полосе к югу от современного г. Гярин. Соседями уцзи на юге в бассейне р. Тумэнь-ула были также северные воцзюй, иначе называемые доумолоу. Последних уцзи, согласно записи в «Бэй ши», «всегда презирали». Впрочем, и остальные владения на юге тоже не пользовались благосклонным вниманием сильнейших из «восточных иноземцев». В сферу южных территорий уцзи по-прежнему входили «большая, шириной свыше 3 ли, река Сумо (Сунгари) и «обоготворяемые горы» Тайбайшань, т. е. Чан-бошань. Согласно «Бэй ши» и «Суй шу», в долинах и на склонах священных «Небесных гор» в изобилии встречались леопарды, тигры, бурые медведи и волки, которые, однако, никогда не нападали на людей. Согласно правилам, уцзи тоже не трогали их, а проходя по тем горам, трепетали от страха и даже не смели мочиться, чтобы не осквернить святыни. Поэтому, путешествуя, они всегда брали с собой специальные сосуды. К северо-западу от территории, занятой уцзи, в бассейне Верхнего Амура, Шилки и Аргуни, Зеи и Бурей расселялись монголоязычные племена шивэй, а также тунгусы, дидэгуань и улохоу. На востоке земли уцзи ограничивались, как и ранее у сушеней, водами «Великого моря», хотя никаких конкретных сведений о приморских племенах источники по-прежнему не содержат. На северо-востоке, т. е. в бассейне Нижнего Амура, на Сахалине, Хоккайдо, Курильских островах, Камчатке и Чукотке жила целая группа племен, которые следует перечислить особо, рассматривая вопрос о расселении в пределах Дальнего Востока семи отдельных племен моха эпохи Суй.
Сведения о потомках сушень — илоу и уцзи к V веку расширились настолько, что о мохэ этого периода уже можно говорить не как о некоем едином целом, а как о совершенно конкретной группе родственных племен, которые, однако, оставались независящими друг от друга. На крайнем юге территории расселения их располагались земли лимо мохэ (они же сумо мохэ) и байшань мохэ. Лимо владели районами, прилегающими к бассейну верхнего течения Сунгари севернее Гирина, а байшань — расположенным юго-восточнее горным массивом, прилегающим к Муданьцзяну. Они-то и тревожили постоянными набегами северные границы Когурё и потомков северного воцзюй — доумо лоу, которые жили в долине р. Хэлань (Му[1]даньцзян). Севернее лимо в районе современного Бодуне, где сливаются Нонни и Сунгари и последняя круто поворачивает на северо-восток, расселялись бодо мохэ, иначе гудо мохэ.
Еще далее от них на северо-восток около современного Харбина вдоль южных берегов Сунгари, где протекает один из ее самых известных правых притоков — р. Альчук, располагались земли племени аньчэгу мохэ, а на восток от гудо мохэ на берегах низовьев и среднего течения притока Сунгари р. Хурхи, т. е. к северу от все тех же доумолоу, жили фуне. Племена хаоши мохэ, или гуши мохэ, занимали территорию ближе к низовьям Сунгари в районе современного г. Сань[1]сина, или Цзямусы, а самое могущественное из мохэских племен хэйшуй мохэ расселялось по берегам Амура от устья Сунгари и до устья Уссури. Какие племена заселяли бассейн нижнего и среднего течения Уссури и большую часть восточной прибрежной территории Приморья, долгое время, по существу вплоть до эпохи Золотой империи, оставалось неизвестным. В «Бэй ши» отмечалось лишь, что в землях, расположенных восточнее владений фуне мохэ, население использует стрелы с каменными наконечниками. Поэтому, очевидно, составители «Бэй ши», а также «Суй шу» пришли к выводу, что в Приморье располагается древнее владение Сушень, «сильнейшее среди восточных иноземцев». Поистине неистребимым остается у народов востока Азии представление о непременной связи каменных наконечников с народом сушень!
Каждое из семи перечисленных выше племен мохэ занимало строго определенную территорию. Согласно записи в «Тан шу», самые крупные племена владели землями, протянувшимися на 300—400 ли, а самые малые — на 200 ли. О количестве населения в каждом племени мохэ можно отчасти судить по числу воинов, которое они могли выставить. Так, согласно данным «Бэй ши», сунмо мохэ и бодо мохэ формировали отряды численностью по 7000 «храбрых» ратников, а байшань мохэ — всего 3000 воинов. Однако неизвестным остается, сколько воинов выставляли хэйшуй мохэ, которые, согласно сообщению «Суй шу», на[1]много превосходили остальные мохэские племена по мощи военных формирований. Несмотря на относительно небольшое число воинов каждого племени, вместе они составляли значительную силу, с которой нелегко было справиться. Во всяком случае мохэ безбоязненно
[28]
и непрерывно тревожили отчаянными набегами границы такого могущественного государства, как Когурё. Удалью и храбростью славилась конница мохэ на востоке Азии. Во время игр, охоты и празднеств оттачивали они свое мастерство. По записям в «Бэй гни» и «Суй шу» известно, какое сильное впечатление произвел в 581 г. на императора Вэнъ-ди танец послов мохэ на пире, данном при дворе в их честь.
Пляска настолько живо и правдоподобно ими[1]тировала сражение, что пораженный и не сумевший скрыть тревоги Вэнь-ди сказал своим приближенным: «Между Небом и Землею есть же такие существа, которые только и думают о войне! Что может быть выше этого?» Единственная мысль успокоила потрясенного императора при оценке воинственного танца — мохэские племена «очень удалены от Срединного государства» и «лишь племена сунмо и байшань близки».
Племена мохэ, если верить сообщениям «Синь Тан шу» и «Тан хуэйяо», заселяли не только бассейн Сунгари и долину Среднего Амура. От устья Уссури, своего рода центра хэйнгуй мохэ, далее на восток по Амуру начинались земли сымо мохэ. В 10 днях пути от них по той же реке располагались владения цзюньли мохэ, а еще в 10 днях плавания жили кушо, или цзюйшо мохэ. От последних в 10 днях пути на юго-восток расселялись моицзе мохэ. Приблизительная разметка пути вниз по Амуру от устья Уссури показывает, что сымо мохэ обитали, очевидно, где-то в районе оз. Болень и р. Горин, т. е. вблизи г. Комсомольска[1]на-Амуре, цзюньли мохэ — около г. Мариинска, кушо мохэ — в устье Амура и на Сахалине, моицзе мохэ, очевидно, те же айны,— на Хоккайдо. По-видимому, глубоко прав Вада Сэй, который, исходя из современных названий племен, а также картины расселения народов Нижнего Амура в сравнительно недавнем прошлом, как она представлялась по результатам исследований Л. Шренка, сопоставил сымо с тунгусскими племенами самаиров, цзюньли с гилеми или гиляками эпохи Золотой империи чжурчженей и юань монголов, а кушо и моицзе с куй и, следовательно, с айнами 9. Если сымо и цзюньли можно сопоставить с людьми, одетыми в рыбью кожу времен сушеней, как они описывались на рубеже на[1]шей эры в «Шань хай цзине», то кушо и мо-ицзе как раз и займут место загадочного «волосатого народа», который, согласно тому же источнику, обитал на крайних северо-восточных границах Приморья. Таким образом, значительно расширились и уточнились представления о расселении племен бассейна Нижнего Амура, хотя сравнительно подробное описание их жизни, быта и культуры относится к гораздо более позднему времени. Что касается земель, расположенных к северу и северо-востоку от устья Амура и Сахалина, то, согласно «Синь Тан шу», а также «Вэньсянь тункао» (гл. 347) и «Тун дянь» (гл. 200), за пределами Северного моря (Охотского?) в 15 днях пути на корабле на север от территории расселения моше мохэ и на северо-восток от хэйшуй мохэ жил народ люгуй. Судя по описанию их страны: земля окружена с трех сторон морем, живут также на островах, речь идет о Камчатке и прилегающих к ней Курильских островах и, следовательно, о населяющих огромный полуостров камчадалах. Мохэ знали и о еще более далеком пароде из страны, «протянувшейся бесконечно» на север,— путешествуя в течение месяца в том направлении, можно было достичь земель народа ечаго. Люди тех мест, судя по описаниям, украшали себя кабаньими клыками и пожирали друг друга. По-видимому, такие известия относятся или к корякам) или к чукчам, которые в более поздние времена жили на крайнем северо-востоке Азии.
Таким образом, в V—VII веках н. э. сведения о народах Дальнего Востока ограничивались фактами из жизни племен, расселявшихся вдоль главного речного пути района — долины Сунгари, а также Амура и далее по морскому пути, связывающему земли Амура с Сахалином, Хоккайдо, Курильскими островами, Чукоткой и Камчаткой. Труднодоступные горные и болотистые районы, расположенные к востоку от Сунгари, в том числе Приморье, оставались большей частью белым пятном на географической и этнической карте Дальнего Востока, поскольку никто из путешественников не рисковал проникать туда. Этническая принадлежность племен Сунгари и Амура представлялась весьма туманно тем, кто собирал и включал в хроники известия о них.
В самом деле, учитывая одинаковые окончания «мохэ» в названиях племен от истоков Сунгари и до Хоккайдо, можно подумать, что все они родственны. Однако если еще можно говорить о каких-то родственных взаимоотношениях мохэ с Сунгари и хэйшуй мохэ (гольды или нанайцы) Среднего Амура с тунгусо[1]язычными сымо мохэ, то палеоазиатов цзюньли мохэ, цюйшо мохэ и моуцзе мохэ, т. е. гиляков и айнов, нельзя присоединять к группе семи племен мохэ Маньчжурии и Приамурья. Они отличались друг от друга по языку и, конечно же, по чисто антропологическим характеристикам, хотя сведений об этом в источниках нет и сказанное можно подтвердить лишь ретроспективными аналогиями. В данном случае слово «мохэ» отражает факт не этнического родства, а подчеркивает природно-географические особенности мест обитания племен, т. е.
расселения их вдоль долин крупных рек, в районах, изобилующих водой. Недаром поэтому лингвисты слово «мохэ» связывают с тун-
_______
9. Гольды называли айнов куш. Отсюда, очевидно, и происходит название айнов — кушо мохэ.
[29]
гусо-маньчжурским «поречане» — «жители рек». Вместе с тем нет оснований сомневаться в родстве этническом и языковом тунгусо-маньчжурских племен, начиная от лимо мохэ с верховьев Сунгари и кончая хаоши и хэйшуй мохэ с ее низовьев, а также Среднего Амура.
Картины жизни и быта уцзи мохэ во многом напоминают известное об илоу — сушень. В частности, язык уцзи мохэ характеризуется в «Вэй шу» как «уникальный» среди языков восточных иноземцев, принадлежащих главным образом к группе древнекорейских племен.
Ранее сделанный вывод о том, что обитатели бассейна Сунгари говорили на языке тунгусо[1]маньчжурской группы народов, подтверждается именем посла уцзи Иличжи, посетившего двор императора Северной Вэй Сяо Вэнь-ди. «Илич-жи», как справедливо отмечал Вада Сэй, — китайская транскрипция маньчжурского слова «элцинь» — «посол». Следовательно, уцзи — мохэ, как и ранее сушени — илоу, говорили на одном из древних вариантов тунгусо-маньчжурского языка. Особого внимания заслуживают новые сведения, которые расширяют представления о коренных обитателях внутриконтинентальных областей Дальнего Востока. Согласно «Вей шу», «Тан шу» и «Цзю Тан шу», уцзи и мохэ по-прежнему не научились строить наземных домов, а на прибрежных возвышенных местах речек или на склоне горы сооружали жилища полуподземного типа, т. е. землянки. Для жилой постройки они вначале вырывали котлован, затем наклонно с упором один на другой ставили столбы, поддерживающие «деревья», которые перекрывали сверху котлован. Деревянные конструкции засыпали в конце строительства землей, вследствие чего снаружи землянки выглядели как куполообразные могильные холмы, на что как раз и обращено внимание в записи «Цзю Тан шу». Вход в землянку располагался не сбоку, а на самом верху купола, откуда вниз вела приставная лестница с несколькими ступеньками. Теперь становится понятной реплика «Цзинь шу» о 9 ступенях в самых удобных, больших и богатых домах сушеней — речь и тогда шла о куполообразных землянках с входом наверху. Группа таких жилищ образовывала поселок, который, согласно «Вэй шу», защищала стена, сбитая наподобие плотины, т. е. своего рода крепостной вал. Надежные и теплые, но темные такие жилища не отличались удобствами. Не случайно поэтому в «Вэй ши» отмечается, что мохэ — самые нечистоплотные из восточных иноземцев.
Особенно поражало чужестранца умывание рук и лица мочой. С наступлением тепла мохэ покидали свои пропахшие дымом зимние жилища, и, как сообщается в «Цзю Тан шу», у них начиналась кочевая жизнь. «Двигаться смотря по достатку в траве и воде» — это словосочетание обычно применялось в летописях при характеристике быта кочевых племен Центральной Азии. Употребленное по отношению к мохэ, оно раскрывало их полукочевой образ жизни летом. Ранее сушени, очевидно, придерживались тех же принципов, поскольку им приходилось покидать землянки и поселяться в постройках типа «ласточкиных гнезд», которые правильнее представлять как легкий перенос[1]ной чум, а не строение на сваях, как предполагалось ранее. К зиме мохэ вновь возвращались в свои укрепленные поселки.
Особенности экономики сунгарийских и среднеамурских мохэ действительно позволяют предполагать наличие у них в качестве одной из отраслей хозяйства отгонного скотоводства, в частности разведения лошадей. Однако развитие земледелия, для которого характерно применение плуга, а в качестве тягловой силы — пары лошадей, не позволяет представить мохэ как кочевников. Основная масса населения жила оседло. Мохэ охотились на соболей в окрестной тайге и горах, ловили рыбу в реках, пахали землю, «подталкивая плуг вперед», сеяли просо, пшеницу, рис, сою, а из овощей — мальву. Рис использовался не только в пищу, но и для приготовления водки, для чего зерна злака разжевывались, а затем из них варилось вино. Люди крепкого сложения, мохэ никогда не пьянели.
О прочной оседлости их свидетельствует также пристрастие к разведению свиней. Свиноводство представляло собой главную отрасль животноводства мохэ. Свинину они употребляли в пищу, а из кож свиней, как и сушени, шили шубы. Богатые семья, по-видимому, представители родоплеменной знати, владели крупными стадами в несколько сотен голов. Мохэ разводили собак, из шкур которых тоже шили шубы. Судя по пристрастию женщин к холщевой одежде, важную отрасль хозяйственной деятельности представляло собой ткачество. Разведению лошадей тоже придавалось важное значение — мохэ[1]воины не представляли себе жизнь без коня. Помимо упомянутой одежды из шкур животных и холста мохэ носили эффектные головные уборы, вероятно, парадные: на севере, согласно записям в «Тан шу», амурские мохэ украшали их перьями хвоста фазанов и клыками дикого кабана, а на юге сунгарийские мохэ — хвостами леопардов и тигров. Волосы мохэ, согласно «Цзю Тан шу», заплетали в косы, они свешивались у них вниз.
В источниках отмечены неожиданные подробности свадебного и погребального обрядов. В «Бэй ши» относительно первого записано так: «При браках женщина надевает холщевую юбку, мужчина одевается в шубу из свиной кожи, а в волосы втыкает хвост леопарда... В первый вечер брака жених приходит в дом невесты, берет невесту за груди, и ревность прекращается.
Если же женщина блудно спознается с посторонним мужчиной и мужу скажут об этом, то муж убивает жену, а потом, раскаиваясь, непременно убьет и сказавшего, почему у них
[30]
прелюбодеяния никогда не открываются» 10. При захоронениях покойников клали в могилу без гроба. И вообще могильную яму вырывали лишь в том случае, если кто-то умирал весной или летом. Покойника опускали на дно могильной ямы, ставили перед ним погребальную пищу, совершали жертвоприношения, а затем засыпали его землей. Вместе с умершим мужчиной
хоронили его убитого коня. В завершение обряда над местом погребения сооружалась деревянная «хижина», чтобы, как поясняется в «Вэй шу», могилу не мочил дождь. На самом же деле, судя по этнографическим данным, с постройкой домика над погребенным связывались сложные религиозные представления мохэ, которые остались неизвестными. Осенью и зимой погребальный обряд по каким-то причинам не предусматривал захоронение в земле и осуществлялся на открытом воздухе. Трупы нередко становились приманкой для ловли соболей. Подбираясь к умершим, соболи попадались в ловушки, расставленные вокруг умершего.
Названные источники содержат новые сведения относительно военного снаряжения мохэ. Воины мохэ, сильные, отважные, умелые, славились на Дальнем Востоке. Их луки и стрелы, не знающие промаха, приводили в ужас соседей. В «Тан шу» отмечается большое мастерство, с которым мохэ сражались в пешем строю. Но еще более прославила себя в битвах конница мохэ, высоким было искусство ведения боя в конном строю. Недаром при борьбе за Ляодун армию танского Китая возглавляли и привели к успеху главным образом полководцы из племенных вождей мохэ 11. Длина лука,
главного оружия войны и охоты, не превосходила 1 метра. Длина стрелы вместе с наконечником составляла около 40 см. Однако уменьшение лука, по сравнению с луком сушеней, не привело к ослаблению его убойной силы. Как отмечено в хрониках, луки мохэ украшались роговыми пластинками. Но такие пластинки служили, конечно же, не украшением а предназначались для увеличения упругости и, следовательно, мощи оружия. Таким образом, мохэ владели луками так называемого усиленного типа, конструктивные новшества были введены ими ради удобства использования оружия, в особенности в седле. Вместе с тем, следуя традициям сушеней, мохэ не отказывались от использования яда, которым смазывали наконечники стрел. В «Бэй ши» сохранилось описание некоторых подробностей, связанных с приготовлением яда. Оказывается, его варили в строго определенное время года — в седьмом и восьмом месяце лунного календаря. Чтобы представить исключительную силу яда, следует сказать, что неосторожности тех, кто готовил его, достаточно было, чтобы пары, поднимающиеся над посудиной, могли умертвить человека. Согласно «Бэй ши», яд использовали для обработки стрел, которые применялись при охоте на птиц и зверей.
Отмеченные ранее изменения в жизни потомков сушеней — мохэ наводят на мысль о значительных сдвигах социального плана и в общественной структуре, в частности о разрушении первобытнообщинных коллективов, более узком проявлении имущественной дифференциации членов рода, об усилении роли «аристократической» верхушки родоплеменных объединений и их вождей. Однако сведения, касающиеся такой кардинально важной проблемы, предельно скупы, иногда для восстановления некоторых деталей приходится прибегать к логическим заключениям. Можно лишь отметить, что у мохэ были богатые и бедные семьи. Отдельные племена продолжали сохранять независимость друг от друга. «Правитель», т. е. племенной вождь мохэ, как и у сушеней, назывался Великий Мофо Маньду. Власть вождя по-прежнему передавалась от отца к сыну, что свидетельствует о господстве патриархально[1]родового строя. Вождь безраздельно господство[1]вал над соплеменниками, и во владении у него находилось значительное количество рабов. Рабство, по-видимому, носило патриархальный характер. Таким образом, эволюция общества шла замедленными темпами по сравнению с соседними Когурё и даже воцзюй. Вместе с тем бурные события политической истории мохэ IV—VII веков — взаимоотношения с тюрками, киданями, Когурё и Китаем эпох Вэй, Сун и Тан — во всем блеске показывают, насколько стремительно возрастала роль тунгусо-маньчжурских племен в судьбах народов Дальнего Востока. Процесс консолидации разрозненныхи разобщенных ранее племен бассейна Сунгари и Амура, начало которого восходит к раннему средневековью, поставил на очередь дня решение сложных политических проблем и прежде всего отстаивание национальной независимости и самостоятельности их перед угрозой соседей, главным образом суйского, а затем танского Китая. Страницы политической истории мохэ, насколько их удается восстановить в связи с событиями в Когурё, вызывают исключительный интерес и заслуживают пристального внимания.
Вожди племен мохэ в сложной обстановке противоборства могучих сил оказались на высоте положения: они вели тонкую дипломатическую борьбу, мастерски играя на противоречиях своих наиболее опасных потенциальных противников. С этой точки зрения примечателен первый же из отмеченных в источниках визит посла мохэ Иличжи в 477 году ко двору императора династии Северная Вэй Сяо Вэнь-ди, когда в анналы впервые заносится имя племени уцзи. Если принять на веру сообщение «Вэй шу», то можно подумать, что главная цель посоль-
___________
10. Бичурин Н. Я. Указ. соч., с. 70.
11. Wada S. Op. cit.
[31]
ства заключалась в том, чтобы, преподнеся дань в виде табуна из 500 лошадей, выразить покорность владыке Поднебесной, а затем уже между прочим испросить разрешения у «великой державы», используя водные пути, напасть на Когурё совместно с другим корейским государством — Пякче. Сяо Вэнь-ди наставительно напомнил Иличжи, что его народ, как и Когурё и Пякче,— даннические владения империи Северная Вэй и поэтому им следует жить в мире между собой, не приносить друг другу вреда. Можно вообразить удивление посла Иличжи, представляющего еще неизвестный в Вэй народ уцзи, когда он услышал от Сяо Вэнь-ди сентенцию о вассалитете своего правителя.
Не исключено, правда, что он знал нравы, царившие многие века при дворах «великой державы» и, как делало большинство суверенных правителей народов Дальнего Востока в таких случаях, пропустил мимо ушей самодовольное заявление государя, позволяя ему те[1]шиться грезами. Ведь Иличжи предстояло решить дипломатическую задачу — завлечь в борьбу с Когурё армию империи Северная Вэй и тем самым способствовать победе уже сложившейся коалиции уцзи — Пякче. Как можно было всерьез представить, что Иличжи испрашивал у владыки разрешения атаковать Когурё, когда сам посол в речи своей Сяо Вэнь-ди сообщал ему, что вождь уцзи уже захватил на северных границах Когурё десять поселков?
Неуж-то Сяо Вэнь-ди оказался столь непонятливым, что принял совершенно очевидное предложение о союзе за испрашивание разрешения на войну?
Как и следовало ожидать, закулисная сторона дела, на которую составители летописей по обычаю набросили густой туман, выглядит совершенно иначе. Оказывается, посольство Иличжи прибыло ко двору Сяо Вэнь-ди как раз в тот период, когда Когурё начало экспансию в пределах Пякче и, по-видимому, на север — в сторону границ уцзи. Во всяком случае точно известно, что в 477 году армия правителя Когурё Чаншоу вторглась на территорию Пякче, разгромила войска своего южного соседа и даже захватила столицу государства — г. Вэйли. Такая ситуация свидетельствовала о полном нарушении политического равновесия на Дальнем Востоке — возникала реальная угроза усиления влияния Когурё в Корее и на юге Маньчжурии. Тревога правителей племен уцзи находит поэтому естественное объяснение. Однако было ясно, что ни объединенные усилия уцзи и Пякче, ни тем более по отдельности две силы, противостоящие могущественному Когурё, не могут ликвидировать смертельную опасность.
Действительно, сопротивление Пякче и удар уцзи по Когурё с севера, когда, если верить словам Иличжи, им удалось захватить десять поселков, расположенных в пределах территории, некогда занятой племенем фуюй, не реши[1]ли проблемы. Вот тогда-то, очевидно, по тайной договоренности с правителем Пякче, вожди уцзи и направили Иличжи ко двору Сяо Вэнь-ди, поставив перед послом сложную дипломатическую задачу — вовлечь в борьбу армию Северной Вэй. Когурё при всем своем могуществе вряд ли выдержало бы войну на три фронта — таким выглядит стратегический замысел союзников уцзи и Пякче. Прощупать почву на предмет союзничества с Северной Вэй могли только уцзи, поскольку Пякче, отрезанное от материковой части Восточной Азии территорией Когурё, не могло направить посольство к Сяо Вэнь-ди. Уцзи такое дипломатическое мероприятие могли осуществить с большими надеждами на успех. Разумеется, при враждебных отношениях с Когурё проход посольства по прямой к границам Северной Вэй исключался, и поэтому-то Иличжи пришлось идти таким необычно длинным кружным путем. По его рас[1]сказу, посольство сначала плыло на лодках на запад по Нонни до р. Тор-усу или Дали. Здесь Иличжи затопил свое судно, вышел па южный берег реки п отправился сухим путем по восточномонгольским степям к р. Ляохэ. Затем маршрут посольства пролегал по западным киданьским границам к хр. Хэлун. Обратный путь Иличжи проходил теми же местами. Следует в связи с этим обратить внимание на тот примечательный факт, что кидани дважды пропустили через свою территорию Иличжи и, следовательно, сочувственно относились к миссии уцзи и Пякче. Такое обстоятельство находит последующее объяснение в жалобах на «притеснения» со стороны Когурё не только уцзи и Пякче, но и киданей. Следовательно, Когурё действительно представляло собой в конце V века н. э. наибольшую опасность для большинства окружающих его народов. В свете сказанного позиция племени уцзи и его активная борьба на дипломатическом и военном фронтах не может не вызвать одобрения. Первый вы[1]ход его на арену, где противоборствовали главные силы Дальнего Востока, выглядит достойным славного имени их далеких предков сушеней.
Возникает естественный вопрос, какой реальной силой обладала в то время Северная Вэй, которая назойливо, как и предшествующие ей династии, напоминала о даннических отношениях к Китаю «восточных иноземцев»? Ответ на него предельно прост и заключается, по существу, в реальных результатах миссии Иличжи ко двору императора Сяо Вэнь-ди. Его государство не обладало сколько-нибудь значительным могуществом, чтобы вмешаться в войну, вспыхнувшую на севере. По крайней мере совладать с Когурё Северная Вэй явно не могла, ибо в противном случае Сяо Вэнь-ди, конечно же, не замедлил бы воспользоваться благоприятно сложившейся для него ситуацией и извлечь из нее максимальные выгоды, в пер-
[32]
вую очередь присоединить к своим владениям территорию такого опасного для Китая соперника, каким неизменно выступало перед ним на северо-востоке Когурё. Именно так поступил через полтора столетия в сходных обстоятельствах танский Вэнь-ди, он же Гаоцзу, о чем ричь пойдет далее. Но как можно сравнивать мощь Северной Вэй с силой танской династии, сплотившей Китай в единое государство? Теперь становится понятным, почему посольство Иличжи окончилось безрезультатно и Сяо Вэньди ограничился в ответах на недвусмысленно выраженные ему предложения о союзе туманными и совершенно неуместными рассуждениями о вассалитете противников и пустопорожними благопожеланиями о мире между Пякче, уцзи и Когурё. За ними совершенно определенно скрыто полное бессилие Северной Вэй, боязнь, неготовность и нежелание ее вмешаться в борьбу с Когурё, прикрытые, однако, из-за боязни «потерять» лицо, ни к чему не обязывающими разглагольствованиями или, как писал в таких случаях Хироси Икэути, краснобайством. Вряд ли это могло удовлетворить Иличжи и пославших его правителей уцзи и Пякче, обеспокоенных угрозой, нависшей над их странами. Высказанное предположение о реальных военных возможностях Северной Вэй подтверждается событиями последующих десятилетий.
Если бы Сяо Вэнь-ди действительно обладал достаточным авторитетом, чтобы влиять на ход событий, развернувшихся на территории Даль[1]него Востока в конце V — начале VI веков, то можно не сомневаться, что его призыв к миру между соперниками уцзи, Когурё и Пякче был бы услышан. Но дело обстояло как раз наоборот. Уцзи не собирались возвращать Когурё отнятую у него богатую и, очевидно, стратегически важную территорию с 10 поселками, которые располагались, по мнению Хироси Икэути и Кайсабуро Хина, в долине р. Хуэйфахе, а согласно предположению Вада Сэй,— около современных небольших местечек Юйшу и Учан, что находятся к востоку от се[1]верной части р. Сунгари 12. Не исключено, что уцзи даже расширили занятые ранее районы, и, следовательно, нападение на Когурё, согласованное ранее с Пякче, вопреки призывам к миру Сяо Вэнь-ди все же состоялось. Удар нанесло и Пякче, которое захватило у Когурё важный район Шэло, где добывался драгоценный камень — белый нефрит. Такой вывод подтверждают слова посла Когурё Жуйсифо, сказанные им в Восточном зале дворца императору Северной Вэй Сюань У. Гость обратил внимание государя на то, что среди привезенных им подарков нет золота и белого нефрита.
Когурё не могло послать в дар ни того, ни другого, поскольку золото добывалось раньше в местности Кацзе, а белый нефрит — в Шэло. Первый район, расположенный на территории фуюй, захватили уцзи, которые «выгнали фуюй», а второй присоединило к себе Пякче 13.
Заявление Жуйсифо о том, что уцзи «выгнали фуюй», как раз и подтверждает мысль о продолжавшихся атаках уцзи на северные границы Когурё. Посол явно стремился подогреть негодование Сюань У и усыпить ею подозрительность относительно военных действий армии Когурё как на севере, так и на юге, ибо Северную Вэй отнюдь не могла радовать перспектива усиления соседа за счет уцзи и Пякче. Можно подумать, что Сюань У, как и Сяо Вэнь-ди в случае с Иличжи, посоветует Жуйсифо жить в мире с соперниками. Наивное предположение в свете традиционной и коварной политики Китая в отношении варваров «разделяй и властвуй!». Сюань У сказал послу Когурё явно подстрекательские слова: «Лукавым неприятелям из девяти иноземцев действительно должно объявить войну... Надлежит совершенно высказать достоинство и доброе расположение и чрез это принудить два народа возвратить вам произведения прежних ваших земель» 14. Примечательно, что все это, следуя все той же пресловутой традиции сюзеренитета и покровительства, объявлялось ни больше, ни меньше как «воля» Сюань У государю Когурё. Китайский двор неуклюже лавировал между противоборствующими сторонами, сталкивая их друг с другом. Сюань У, как и Сяо Вэнь-ди, не обладал серьезными возможностями для вмешательства в борьбу на севере, и поэтому ему не оставалось ничего другого, как занять ни к чему не обязывающее место некоего непрошенного третейского судьи, свысока поучающего и наставляющего «заблудших». Провоцирование китайскими императорами Когурё на войну с соседями, возможно, вызванное надеждами на ослабление корейцев и их противников, не мешало им, однако, спокойно продолжать прием посольств уцзи — мохэ. Длинную череду записей о приходе их с подарками можно найти в летописях. Прибытие послов отмечено в 485—486, .489, 493 (посол Жэньсофэй и 500 человек свиты), 503 (посол Хулигуй-20), в 541, 545-547, 564-565, 567, 572—573 годы. Какие-либо подробности о визитах не сообщаются, взаимный обмен «данью» мохэ и Китая следует рассматривать как меновую торговлю, не более того. Мохэ доставляли южному соседу лошадей, стрелы, «местные произведения», а взамен увозили на север товары, которыми славился Китай.
Особого внимания, однако, заслуживает первое посольство мохэ ко двору суйского императора Вэнь-ди (Гао-цзу) в 581 году, поскольку по[1]следующие десятилетия ознаменовались событиями, свидетельствующими о коренных изме-
___________
12. Wada S. Op. cit.
13. Бичурин И. Я. Указ. соч., с. 56.
14. Там же
[33]
нениях во взаимоотношениях мохэ, Когурё, Пякче и Китая. На Дальнем Востоке из-за угрозы агрессии на север набравшего силы Срединного государства сразу же начали складываться новые союзнические комбинации, в которых мохэ отводилась исключительно важная роль. Поэтому не случайно, по-видимому, сох[1]ранились подробности прибытия ко двору Вэнь-ди посольства мохэ. Диалог между послами и Вэнь-ди поневоле заставляет припомнить историю с Ши Цзи-луном, к которому, если верить источнику, сушени пришли, заметив, что их коровы и лошади три года спали, обратив головы на юго-запад, где, как показывала такая примета, располагается «великая страна». Мохэ сказали будто бы так: «Мы..., живучи в отдаленной стране, слышали, что в Срединном государстве есть святой муж: посему приехали поклониться ему и увидеть лицо святого. Желаем вечно быть рабами его». Вэнь-ди, в свою очередь, произнес такие слова: «Я буду считать вас своими детьми, а вы должны почитать меня как отца» 15. Составителям династийных хроник при чтении такого рода вставок нельзя отказать в стойком следовании традициям. Последующие строки «Бэй ши» разъясняют, однако, существо дела: Вэнь-ди «запретил» мохэ и киданям нападать друг на друга и заниматься грабежами. Отсюда может следовать только один вывод — посольство мохэ прибыло не для того, чтобы лицезреть «святого», а с целью организации совместного с суйским государем нападения на своих соседей киданей. Далее в хронике описывалась знаменитая военная пляска мохэ на пире Вэнь-ди в честь посольства, когда император с большим облегчением размышлял о благе того обстоятельства, что «дети» и «рабы» его, к счастью, живут далеко от его государства.
Фальсификация картины переговоров Вэнь-ди и мохэ становится особенно очевидной в свете последовавших событий, связанных с агрессией Суй против Когурё, и роли, которую сыграли в них те, кто совсем недавно просился «вечно быть рабами» Срединного государства. После 581 года, когда посольство Когурё тоже побывало при дворе Вэнь-ди, суйский двор начал осуществление планов разгрома и включения в пределы территории Поднебесной своего главного соперника на Дальнем Востоке — государства Когурё. Достаточно привести лишь два высказывания Вэнь-ди, чтобы понять, какие настроения господствовали тогда в среде правящей верхушки окрепнувшей империи: «Я люблю всех живущих, как младенцев», «В Поднебесной все суть мои подданные» 16.
Первым практическим шагом в атаке на Когурё стал захват в 582 году войсками Вэнь-ди соседних с ним на юге областей, которые контролировались домом Чень. Затем вблизи территории Когурё появились лазутчики и заметно оживились передвижения суйских армий. Правитель Когурё Тан не без оснований опасался, что следующей жертвой станет его страна. Когурёсцы, готовясь к предстоящей борьбе, начали привлекать на свою сторону племена мохэ и киданей, очевидно, разъясняя, чем грозит захват Китаем соседних с ними территорий. Одновременно они стали усиленно укреплять границу, мобилизовывать армию, запасать провиант. Велись усиленные наблюдения за передвижениями китайских войск.
Все эти мероприятия вызвали негодование Вэнь-ди, который давно выискивал удобный предлог для начала войны. Он не замедлил направить «грамоту за большой государственной печатью». В послании, составленном в 597 году, Вэнь-ди обвинял Тана в том, что тот «ядом отравляет приверженность» Китаю мохэ и киданей, всячески «притесняя» их. Из текста выясняется также, что подозрения о намерениях Суй возникли у Тана сразу же, как он узнал о засылке агента Вэнь-ди с целью «успокоить (его) соседей и... узнать о расположении тамошних жителей, внушить им правила управления» 17. Но Тан, прекрасно пони[1]мая, что значит «внушать правила управления», естественно, стал «стеснять чиновников, опасаясь, чтоб они не разведывали». Однако этого оказалось Вэнь-ди достаточно, чтобы предъявить Когурё грозный ультиматум: «Государь! Если ты очистишь сердце, переменишь поведение, то сделаешься лучшим моим вельможею, и тогда не для чего мне заботиться о выборе другого какого-либо» 18. Подобные беспрецедентные в отношениях между государствами обвинения Вэнь-ди основывались на весьма зыбкой почве: «Восприняв повеление Неба, люблю питать земные народы..., в Поднебесной все суть мои подданные».
Тан не ответил на «грамоту» суйского двора, а его преемник на престоле Юан в следующем году произвел нападение на армию Вэнь-ди. Важно, что ядро войск Юаня, ворвавшегося в пределы Ляоси, составлял десятитысячный отряд конницы мохэ. Несмотря на неоднократные хвастливые заверения Вэнь-днотом, что для разгрома Когурё достаточно одного полководца, даже участие его самого в войне, как и походы его преемника Ян-ди в 611, 613, 614 годы, не привели к сколько-нибудь заметному перелому в войне. Значительную роль в успешном отражении агрессии Суй против Когурё сыграли отряды мохэ. Последовавшие затем события подтверждают такой вывод.
________
15. Бичурин Н. Я. Указ. соч., с. 72.
16. Там же, с. 84.
17. Бичурин Н. Я. Указ. соч.
18. Там же
[34]
Решающий нажим на Когурё начался, когда в Китае пришли к власти представители новой династии — Тан. Их отношение к соседям, в том числе к народам Дальнего Востока, нашло отражение в высокомерной сентенции вельмож основателя династии Гао-цзу в ответ на его размышления о том, стоит ли настаивать на вассалитете Когурё: «Срединное государство в отношении к иноземным народам, как солнце в отношении к звездам. Невозможно не подчинить» 19. Не удивительно поэтому, что когда танский военный советник Чжань Сунь-ши начал, следуя приказу Гао-цзу, хоронить трупы китайских воинов, павших в сражениях при династии Суй, и разрушать памятники, сооруженные когурёсцами в память побед, в Когурё поняли, что готовится новая война. Ответом на провокационную политику Тан стало сооружение грандиозной оборонительной стены, протянувшейся на 500 ли от земель фуюй на северо-востоке и до моря на северо-западе. Решающие столкновения Китая с Когурё развернулись в 645 году. Император Тай-цзун, потеряв надежду на умиротворение Когурё с помощью соседей, в том числе мохэ, вторгся со стотысячной армией на его территорию и захватил ряд городов. Когда началась осада крепости Аныни, сразу же стало ясно, как относятся вожди племен мохэ к очередной войне Китая с Когурё: их отряды прибыли к стенам осажденного города. Тай-цзун, обсуждая создавшееся положение, особо выделил роль мохэ в предстоящих событиях. Корейцы, по его словам, должны окопаться на горах, а мохэсцев они пустят грабить, у китайцев быков и лошадей. Но, как выяснилось вскоре, мохэ отводилась далеко не простая роль. «Неприятели всегда впереди ставят лучшую мохэскуго конницу», — с ужасом отмечали танские полководцы. Противостоять ей сами китайцы не могли. Поэтому когда тюркский военачальник Ангине Шени попытался провести разведку с тысячью конников, его отряд немедленно оттеснила на север мохэская конница. Победа выглядела настолько впечатляюще, что обрадованный полководец войск Когурё Гао Янь-шоу счел исход сражения предопределенным: «С китайцами не трудно справиться» 20.
Однако самоуспокоенность Гао Янь-шоу стоила ему на следующий день поражения. Остатки его разбитой армии сдались Тай-цзу-пу. Необычным было отношение императора к захваченным в плен: проползшему через весь лагерь на коленях Гао Янь-шоу и старому полководцу Гао Хой-чжэню победители не только сохранили жизнь, но и пожаловали но[1]вые чины, а 30 000 воинов Когурё они с миром отпустили по домам. Столь удивительные милосердие и доброта императора к недавним врагам не распространились только на мохэсцев. «Сражавшиеся очень упорно», мохэсцы оказались единственными, кого жестоко и изощренно наказали,— 3000 пленных воинов ки[1]тайцы живьем закопали в землю. РешениеТай-цзуна о безжалостном уничтожении мохэ представляется, на первый взгляд, необычным, поскольку в том же рассказе настойчиво подчеркиваются милосердие, любовь императора к людям, в том числе к побежденным врагам, его простота в обращении с воинами, вместе с которыми он терпеливо сносил трудности похода на Когурё. Правда, политику всепрощения Тай-цзуна легко понять — он всеми мерами старался привлечь на сторону Тан упорно сражавшиеся войска и жителей осажденных городов Когурё. Варварская расправа с пленными воинами мохэ выглядит исключением в тщательно продуманной тактике «все[1]прощения». Насколько же безгранично прогневался император, чтобы в случае с мохэ поступиться своими принципами милосердного монарха. Мохэ не просто пали жертвой при[1]хоти владыки, а понесли наказание за необыкновенное упорство, храбрость и самоотверженность, проявленные до конца в отгремевших сражениях. Кроме того, следует учесть, что, вопреки приказам Тай-цзуна, мохэ не выступили в самом начале войны против Когурё, как поступили, следуя призывам императора, тюрки, кидани, а также Пякче и Силла. Удар с севера мохэской конницы мог бы привести к быстрому разгрому Когурё, чего танский Китай, кстати, не, мог добиться в последующие годы, несмотря на победу под стенами Аньши.
Чем же, однако, объяснить такой порази[1]тельный факт, что мохэ не выступили в 645 году на стороне Китая в его борьбе против Когуро? К тому же взаимоотношения мохэ с Китаем отнюдь не отличались однозначной враждебностью — отряды мохэ во главе с вождем Тудицзи и его преемником Цзиньсином ранее, в первые десятилетия VII века, принимали самое активное участие в войнах Суй, а затем Тан в областях, прилегающих па юге к границам Когурё. Более того, одно время они даже возглавляли армии танской империи при их операциях в районе Ляодупа. Что же случилось на сей раз и как можно понять позицию мохэ в необычайно тяжелой для пародов Дальнего Востока ситуации, связанной с агрессией Тан па север за пределы Ляодуна? Во всяком случае можно решительно отклонить предположения о том, что участие войск мохэ в сражениях с Тай-цзуном определялось вассальной зависимостью их от Когурё. Если бы на самом деле такая зависимость существовала, а такназываемые «притеснения» представляли собой захват территории или вмешательство во внутренние дела мохэ, то можно не сомневаться, что они вряд ли бы упустили возможность
_________
19. Бичцрин 11. Я. Указ. соч., с. 101.
20. Там же, с, 111.
[35]
пресечь притязания Когурё и расправиться со своим врагом с помощью Китая. Именно так они поступали в других случаях. Однако в середине VII века позиция племен мохэ заметно изменилась. Вопреки планам и надеждам Тай-цзуна, в самом начале войны 645 года они отказались представить свои войска правителю области Инчжоу Чжан Цяю, а через некоторое время открыто выступили как союзники Когурё в боях под стенами Аныии. Вот почему Тай-цзун не упомянул в указе, где перечислялись его сателлиты в предстоящих сражениях, войска мохэ. Все это свидетельствует прежде всего о том, что «притеснения» мохэ когурёсцами представляли собой не что иное, как мелкие пограничные, стычки, в которых, возможно, более повинны были «склонные к набегам и разбоям» мохэ, чем когурёсцы.
Такого рода столкновения сразу же пришлось отбросить перед лицом страшной угрозы — экспансии Китая на северо-восток.
Но гораздо важнее другое. Мохэ выступили на стороне Когурё в самый неблагоприятный для последних период войны с Китаем. Тай-цзун к тому времени взял и сжег крепости Шаби и Ляодунчен, вынужден был капитулировать после упорного сопротивления Байяй-чен, а танские военачальники уже планировали захват Цзяньаня и Аныди, после чего судьба столицы Пхиньсяна предрешилась окончательно. Именно в такой поистине критический момент мохэ решили оказать поддержку Когурё. На столь смелый шаг не мог пойти вассал. Сделал его, копечно, добровольный союзник в борьбе с общей опасностью.
Чтобы оценить дальновидность такого решения, нужно подчеркнуть, что не все пароды Дальнего Востока и Центральной Азии, занятые порой мелкой междоусобной грызней, ясно понимали последствия агрессии Тан на Дальнем Востоке. Так, кидани и тюрки нашли выгодным присоединиться к войскам Тай[1]цзуна, чтобы наказать «притеснителей» Когурё. Те и другие не осмелились игнорировать призыв императора, поскольку не видели нужды в том, чтобы противостоять Китаю. Им казалось, что поддержать Тай-цзуна — значит выиграть. Такую же позицию заняли два корейских княжества — Пякче и Силла. Ранее они сделали немало, чтобы спровоцировать войну, а когда она началась, стали на сторону Тан, в значительной мере осложнив сопротивление Когурё. Неспособные объединить в единое государство все корейские княжества, Пякче и Силла предпочли видеть разгромленным своего врага Когурё, правители которого постоянно угрожали поглотить их территории.
Даже Пякче, недавний союзник Когурё по захвату у Силла 500 ли земель, оказалось на стороне Тан: жители Пякче, узнав, как под ударами стенобитных орудий и «каменного дождя» начали рассыпаться стены и дома в крепости Ляодунчен, преподнесли Тай-цзуну латы, украшенные золотом, и «гору» червонного золота.
Сказанное неизбежно приводит к выводу о проницательности и дальновидности вождей племен мохэ. То, что они выступили в сложившейся политической обстановке на стороне жертвы агрессии — Когурё, означает понима[1]ние ими, не в пример тюркским и киданьским вождям, а также правителям государств Пякче и Силла, гибельности последствий экспансии Китая в пределы земель народов Дальнего Востока. Победа Тай-цзуна над Когурё, которое издавна как щит прикрывало мохэские племена от проникновения на их территорию ки[1]тайцев, означало бы появление на их границах куда более опасного противника. Вслед за оккупацией Когурё наступила бы очередь мохэ. Вот почему их вожди к удивлению Тай[1]цзуна приняли решение выступить на стороне Когурё. Мудрость и мужество мохэ тем более очевидны, что ни у кого тогда не возникало ни малейших сомнений в победе мощного, находящегося в расцвете сил Танского Китая.
Изменить казавшееся неизбежным можно было, лишь отбросив мелкие распри и решение несущественных спорных проблем ради объединения сил против общего врага.
Итак, мохэ оказались единственными из всех восточных иноземцев, кто, помимо Когурё, продемонстрировал свою самостоятельность в выборе пути, обнаружив полную формальность своих так называемых «вассальных» взаимоотношений с Китаем, разработал своеобразную политическую программу. Без риска пре[1]увеличения можно сказать, что в провале планов Танского Китая относительно окончательного покорения северо-востока не последнюю роль сыграли мохэ. Они превратились в силу, которую не могли тогда не принимать во внимание как Когурё, так и Китай. Вот почему Тай-цзун оказался в конце концов неспособным сломить военный союз мохэ и Когурё.
После смерти Тай-цзуна Когурё и мохэ неоднократно объединяли свои силы для совместных нападений на союзников Китая. Так, в 654 году государь Цан и мохэские войска атаковали киданей и захватили г. Синьчен. Непогода и недостаток вооружения вынудили армию союзников возвратиться. В пути их дважды настигали кидани, в первый раз кидане были наголову разбиты, во второй раз, когда, «пустив палы», вступили в сражение, те снова потерпели поражение. Характерно, что Цан не[1]медленно сообщил новому императору Китая Гао-цзуну о своей победе над союзниками Китая в недавней войне с Когурё. Очередной, еще более значительный вызов был брошен китайцам в 655 году, когда вновь «синьлосцы принес[1]ли жалобу, что Когурё и мохэ отняли у них
[36]
тридцать шесть городов» 21. К Когурё и мохэ присоединились затем Пякче. Круг замкнулся.
Жалоба Силла, которая в 643 г. привела к прямому военному столкновению между Китаем и Когурё, снова повторилась. Только на сей раз союзником Когурё кроме Пякче выступи[1]ли мохэ, без которых корейцы теперь, кажется, не предпринимали ни одной крупной политической и военной акции. Китай лишился возможности начать на севере новые крупные военные операции против двух могущественных и удивительно единодушных союзников и присоединившегося к ним Пякче. Посланные императором военачальники Су Ди-фан и Чунь-сю смогли покорить только Пякче, а Когурё и мохэ остались безнаказанными.
Кратковременные походы против них китайцев приводили к незначительным победам, чередующимся с поражениями. Такая неопределен[1]ность продолжалась до тех пор, пока Ли Гюнь-кю, правитель округа Юйчжоу, встревоженный неудачными военными операциями, пе подал «представление», в котором в отчая[1]нии бессилия говорилось, что «когурёсцы суть низкие, подлецы, не заслуживающие, чтобы тревожить для них целое государство... По моему мнению, выгоднее не воевать, нежели воевать, выгоднее не уничтожать, нежели уничтожать» 22. Китай в то время так и не смог сломить сопротивление союза мохэ л Когурё.
Только после смерти правителя Гайсувыня в условиях начавшейся вражды н раздоров его сыновей Наныненя, Наньгуня и Наиьчаня, которые умышленно провоцировали и всячески подогревали враги, Китаю удалось в 668 г. оккупировать Когурё. Посланник армии Гя Янь-чжун, который докладывал императору о делах, так объяснял неудачу Тай-цзуна в прошлом: «Покойный государь предпринял поход для наказания виновных и не успел в своем предприятии, потому что тогда неприятели не имели несогласия (выделено мною,— В. Л.) между собой. Ныне Нанынень со своими братьями в сильной ссоре...». 23
Но даже после тотального разгрома Когурё мохэ и корейцы вскоре снова попытались нанести удар тем, кто заигрывал с Китаем. В 661 году престол в Силла перешел к Фаминь, который придерживался иной политики по отношению к Когурё и мохэ, чем его предшественник Чуньчю. Об этом свидетельствует, в частности, принятие Фаминем в 674 году «войска гаолийских мятежников» 24 и нападение на Пякче. В войне и на этот раз, но уже на стороне Силла, приняли участие мохэ. Они организовали большую морскую экспедицию и неожиданно напали на «южные пределы» Пякче. Император, разгневанный принятием Фаминем местных когурёсцев и его совместным с мохэ нападением на Пякче, послал военачальников Лю Жэнь-чюя, Ли Би и Ли Цзин-сина «совер[1]шенно усмирить» бунтовщиков. В 675 году произошло решительное сражение около г. Ци[1]чжун. Летописец отметил, что Лю Жэнь-чюй «побил и в плен взял множество мохэсцев» 25.
Через два года произошло новое выступление Когурё, которое возглавил Цан. Восстание при самом активном участии мохэ произошло в 677 году, «когда образовались внутренние округи и все протестовали», что резиденцию «восточного наместника» поместили в Аньдуне, а не в Сипьчене 26. Речь шла, по-видимому, о размещении ставки «наместника» (Цана) на окраине страны, ближе к Срединному государству. Но «истерзанная» страна уже не могла оказать Китаю серьезного сопротивления, и восстание удалось быстро подавить. Цана сослали в Цин-чжоу, его сподвижников удалили в Хэнань и Лунъю, а в Аньдупе оставили только «слабые и бедные» семейства.
Политической линии мохэ не откажешь в последовательности. В сложной обстановке взаимной борьбы государств и племенных объеди[1]нений «восточные иноземцы» (Когурё, Пякче, Силла, кидани, тюрки) то становились врагами Китая, то снова превращались в его союзников, а затем опять во врагов. Только мохэ боль[1]шей частью не знали колебаний. Их вожди значительно раньше, чем кто-либо, поняли коварную политику правителей Поднебесной «с помощью варваров — управлять варварами». Прежде всего этим, по-видимому, объясняется со[1]юзническая верность мохэ своему соседу на юге — Когурё в его ожесточенной борьбе с Суй и Тан. По той же причине мохэ затем помогали Пякче и Силла в тех случаях, когда те, нападая друг на друга, проводили политику, направленную против главного противника — Китая.
Победа Гао-цзуна над Когурё не привела, да и не могла привести к прямой аннексии Тан южных районов Дальнего Востока, поскольку Китай в этот период не обладал, по-видимому, достаточным для решения такой задачи военным и экономическим могуществом. Не случайно поэтому, стоило начаться в Поднебесной очередному взрыву «потрясений» и «смут», в особенности усилившихся в годы правления императриц Уши и Вэйши, как результаты похода Гао-цзуна на север оказались сведенными на нет. На территории, занятой племенами сун[1]мо мохэ, куда, спасаясь от войск Гао-цзуна, бежало большое количество когурёсцев, стали подниматься города, окруженные крепостными стенами. На развалинах Когурё вскоре возникло могущественнейшее на Дальнем Востоке государство Бохай — страна высокой культуры
_______
21. Бичурин Н. Я. Указ. соч., с. 118, 126.
22. Там же., с. 118.
23. Там же, с. 121.
24. Там же, с. 132.
25. Там же.
26. Там же, с. 123
[37]
и просвещения, известная далеко за ее пределами. Основателем Бохая стал вождь сунмо мохэ Цицик Чжунсян, который после разгрома Когурё сразу же расширил свои владения и занял район хр. Моушань. Новые территориальные приобретения сунмо мохэ последовали в 696 году, когда одновременно с нападением киданей на Северный Китай Цицик Чжунсян форсировал с армией р. Ляошуй и захватил северо[1]восточную часть хр. Чанбошань. Танскому Китаю но оставалось ничего другого, как признать свершившееся. Внук Цицика Чжунсяна Уачжи Да Туюй принял титул императора, и хотя Китай не признал такое событие законным, сделать что-либо реальное и вмешаться в ход дел на Дальнем Востоке оказался бессильным — 228 лет процветало государство Бохай, достой[1]ный наследник культуры и могущества Когурё, а также племенного союза сунгарийских мохэ 27.
По-иному сложилась судьба самого северного из мохэских племен — хэйшуй мохэ, которое по-прежнему расселялось по берегам Амура от устья Сунгари до устья Уссури. По существу здесь, как и на юге в низовьях Сунгари у супмо мохэ в момент их союзнических отношений с Когурё при отражении агрессии Тан, сформировался со временем племенной союз. Во всяком случае все попытки Бохая подчинить себе «процветающие и разделенные на 16 групп (племен?)» хэйшуй мохэ также ни к чему не привели 28. Амурские мохэ создали собственную армию, соорудили на своих северных и южных границах «частоколы» и успешно отражали попытки отрядов Бохая вторгнуться на их территорию. Борьба Бохая с северными племена[1]ми затянулась на десятилетия. Много раз императоры Бохая объявляли об окончательном умиротворении хэйшуй мохэ, но, судя по тому, что вожди их посылали свои посольства к соседям, в том числе в Китай, минуя посредничество Бохая и «не уведомляя его владык», амурские мохэ до конца сохраняли свой суверенитет. Можно поэтому представить меру негодования и в то же время опасения бохайского императора У-и, когда он узнал о проходе на юг очередного посольства амурских мохэ. Его пугала перспектива заключения ими союза с другими соседями Бохая с целью нападения на границы дальневосточной империи.
Период возвышения и особой политической и военной активности хэйшуй мохэ датируется X веком н. э. К территории, которую они контролировали в то время, относились не только бассейн Среднего Амура, но также верхняя поло[1]вина Сунгари. Именно тогда еще до возвышения киданей и нападения их на Бохай среди хэйшуй мохэ стало выделяться могущественное племя нюйчжэнь. Так впервые около 926— 934 годов в источниках появилось название «чжур[1]чжень», по которому всех хэйшуй мохэ вскоре стали называть «нюйчжэнь». В течение послед[1]них десятилетий существования государства Бохай чжурчжени неоднократно вторгались в пределы южных территорий и армия Бохая но без значительных усилий отражала нападения своих северных соседей. В свете таких фактов ни о каком подчинении хэйшуй мохэ или чжурчженей Бохаю, а тем более далекому Китаю не могло быть и речи. Когда кидани в 926 г. раз[1]громили Бохай, то на передовую линию борьбы за независимость народов Дальнего Востока с кочевниками степей и Китая вышли чжурчжени, далекие потомки легендарных сушеней юга
Маньчжурии.
Но сюжеты, связанные с Бохаем и чжурчженями, заслуживают особого разговора. Сейчас же, даже после сравнительно беглого обзора событий на Дальнем Востоке, в которых в качестве действенных сил выступали дрэвние тун[1]гусо-маньчжурские племена сушень, илоу, уцзи и мохэ, становится ясно, насколько важную роль играли они в политической истории восточноазиатского региона. Проблема эта остается перспективной для дальнейшей, более углубленной разработки.
__________
27. Матвеев 3. Н. Бохай.—«Тр. Дальневосточного гос. ун-та», 1929, сер. 6, № 8; Бичурин П. Я. Указ. соч., с, 136-137.
28. Wada S. Op. cit.
[38]
В.Е. Ларичев. Народы Дальнего Востока в древности и в средние века и их роль в культурной и политической истории Восточной Азии. // Цитируется по изд.: Дальний Восток и соседние территории в средние века. Серия: История и культура Востока Азии. Отв. ред. В.Е. Ларичев. Новосибирск, 1980, с. 8-38.