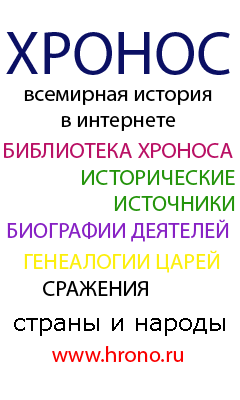Раевский Д.С. Скифы, саки и киммерийцы
При сопоставлении различных версий скифской генеалогической легенды мы выяснили, что, несмотря на значительную близость их структуры и содержания в той части, которая имеет космологический смысл (брак небесного божества со змееногой богиней земли и воды, происхождение от этого брака смертного, телесного мира, и в частности скифского народа), в них достаточно четко прослеживаются параллельные традиции, связанные с интерпретацией мифа на социальном уровне. Независимость этих традиций друг от друга проявляется в двух моментах. Во-первых, версии Г-I и Г-II * по-разному описывают сакральное испытание, в ходе которого выявляется достойный претендент на скифский престол и родоначальник скифских царей. Во-вторых, между версиями Г-I и ДС прослеживается расхождение в той части, которая повествует о сложении системы сословно-кастовых групп. Оно проявляется в числе этих групп (три в версии Г-I и две в версии ДС) и, что особенно важно, в терминологии, служащей для обозначения сходных социальных категорий: палы и напы в версии ДС, паралаты и катиары и траспии в версии Г-I. Бытование обеих традиций у среднеазиатских народов, нашедшее отражение в рассказе Плиния, объясняется, возможно, компилятивным характером его труда, и каждую из традиций следует соотносить с иным регионом и с иной группой племен (данные Плиния, как мы видели, не поддаются точной локализации). У скифов же Причерноморья обе эти традиции бесспорно соседствовали в рамках одного этнополитического организма. Об этом свидетельствует ряд данных.
Рассказ версии Г-I отчетливо связывается с Северным Причерноморьем, и поэтому традиция, отраженная у Геродота, бесспорно принадлежала европейским скифам. Что касается традиции, переданной версией ДС, то в ней прежде всего прямо говорится о распространении потомков Пала и Напа вплоть до Фракии, т. е. на пространстве Европейской Скифии. С этим же регионом связаны скифские топонимы, возводимые к социальной терминологии версии ДС. Эпиграфически засвидетельствовано существование в Крыму в
_______
* Версии различаются по числу генеалогических горизонтов. В вариантах Г-II, ВФ и Эп их всего два, в варианте ДС – три, в варианте Г-I – даже четыре. Однако этот разнохарактерный материал поддается определенной унификации. Для версий Г-I, Г-II, ДС и Эп общей чертой структуры является наличие мотива расщепления генеалогического древа на одном из горизонтов на несколько ветвей. В версии ВФ прямого указания на этот мотив нет.
[165]
позднескифское время крепостей Напит [Соломоник 1964: 7 сл., № 1] и Палакий [там же: 92 сл., № 44; см. также: Strab., VII, IV, 7]. Связь топонима Напит с напами Диодора уже отмечалась в литературе [Соломоник 1964: 11]. Что касается названия Палакий, то его обычно производят от имени царя Палака [Дашевская 1958: 149].
Представляется, однако, что оба этих имени — и антропоним, и топоним — восходят к социальному термину «палы» и означают в первом случае «воин», «военный вождь», а во втором — «крепость воинов» [ср. толкование скифских топонимов Крыма как производных от названий сословно-кастовых групп с фактом существования в древней Индии городов, связывавшихся с определенной Варной (Arr., VI, 7, 4 — о «городе брахманов»)]. Учитывая, что в сословно-кастовой структуре скифского общества военная аристократия, как мы видели, была связана с царским родом, существование имени царя, производимого от термина, обозначавшего эту сословно-кастовую группу, вполне вероятно. Более того, по той же причине название Палакий представляется наиболее логичным связывать именно со столицей скифов как резиденцией царя и его войска. Поэтому полагаю, что именно так называлась позднескифская столица, располагавшаяся на городище Керменчик в Симферополе. Традиционное именование этого города Неаполем восходит к гипотезе И. П. Бларамберга [Blaramberg 1831; Бларамберг, 1889], археологическая и историческая аргументация которого, как уже показала О. Д. Дашевская [1958: 146—150], практически несостоятельна. Предложенная выше социальная интерпретация термина «палы» предоставляет дополнительные доводы в защиту ее тезиса о том, что столица позднескифокого царства называлась Палакий [подробнее об этом см.: Раевский 1976]. Наконец, с Европейской Скифией, по всей видимости, связано и свидетельство Стефана Византийского о Написе, поселении в Скифии (см. выше).
Итак, в Европейской Скифии параллельно бытовали две сходные, но все же самостоятельные мифологические традиции и возводимые к ним системы социальных терминов. Этот факт требует объяснения в свете данных об этническом составе населения Скифии и об истории его формирования. Следует оговориться, что вопросы, затрагиваемые ниже, неоднократно привлекали внимание исследователей и имеют обширную литературу. Концепции разных авторов различаются порой в деталях, порой в существеннейших пунктах. Многие из высказанных здесь суждений с той или иной степенью
[166]
полноты уже предлагались в литературе. Я попытался сгруппировать их таким образом, чтобы они максимально согласовались с имеющимися данными, в частности с предложенной выше интерпретацией скифской мифологической системы.
Как известно, Геродот, описывая Скифию, делит ее население на шесть «этносов»: скифов царских, скифов-кочевников, скифов-земледельцев, скифов-пахарей, алазонов и каллипидов. В согласии с установившейся традицией я употребляю применительно к этим «этносам» термин «племена», хотя, как уже отмечалось в литературе, по крайней мере некоторые из них были скорее всего племенными объединениями, включавшими по нескольку племен [Граков 1954: 17; Тереножкин 1966: 34]. Данные об этих племенах следует сопоставить с излагаемым тем же автором историческим преданием о происхождении скифов (IV, 11 — версия Г-III, кратко упомянутая выше). Это предание гласит, что «кочевые скифы, жившие в Азии, будучи теснимы войною со стороны массагетов, перешли реку Аракс и удалились в киммерийскую землю», т. е. в степи Причерноморья. Сведения Геродота со всей определенностью указывают, что в этом передвижении участвовали не все скифы, а лишь некоторая их часть, которую историк определяет как кочевых скифов 1. Из этого следует, что какая-то часть скифских племен, в том числе, видимо, оседлые племена, обитавшие в западных районах Скифии (или по крайней мере некоторые из них — см. разд. 2 настоящей главы), в этом передвижении не участвовала и обитала в Причерноморье до указанного вторжения. Сопоставляя же эти сведения с данными о том, что в последовавший за этим вторжением период среди скифских племен господствующее положение занимали скифы царские, «лучшие скифы», почитающие прочих скифов своими рабами и именующиеся в противоположность остальным «свободными» (Herod., IV, 20 и 110), логично полагать, что описанное Геродотом передвижение из Азии связано именно с приходом в Причерноморье скифов царских и с покорением ими других племен, вошедших на правах побежденных в скифское племенное объединение. Не случайно именно область обитания этих последних — западные районы Скифии — именуются Геродотом «древнейшей Скифией» (IV, 99), что можно трактовать как указание на то, что ее население выступает в роли автохтонного по отношению к пришельцам, заселившим позднее более восточные области [см. Миллер 1887: 123]. О том, что покорение скифами царскими остальных «племен» относится ко
[167]
времени до переднеазиатских походов, свидетельствует рассказанный Геродотом (IV, 1—4) эпизод с потомками слепых [см.: Хазанов 1975: 229].
Итак, из данных Геродота следует, что население Скифии сложилось из двух основных компонентов — «собственно скифского», пришедшего из-за Аракса (скифы царские и, возможно, некоторые из подчиненных им племен — см. ниже), и «доскифского», обитавшего здесь ранее (оседлые земледельцы и, видимо, отчасти и кочевники, которые, по Геродоту, также находились в подчинении у скифов царских). Во времена Геродота оба эти компонента уже слились в едином этносе и все племена равно воспринимались как скифы.
Но, согласно тому же Геродоту, до прихода скифов в Северное Причерноморье здесь обитали киммерийцы. В таком случае вполне логично толковать указанный субстратный компонент именно как киммерийский. Это толкование вступает, правда, в противоречие с данными самого Геродота (IV, 11), который указывает, что при приближении скифов киммерийцы частично перебили друг друга, а частично удалились через Кавказ в Переднюю Азию, так что «скифы заняли страну, уже лишенную населения». Здесь проявляется определенное противоречие в понимании Геродотом процесса формирования скифского этноса. Это противоречие снимается свидетельством Плутарха, ценность которого для уяснения характера этого процесса справедливо отмечена Б. Н. Граковым [1954: 11]. По Плутарху (Mar., XI), те киммерийцы, которые «перешли от Меотиды в Азию», составляли лишь незначительную часть большого этнического массива, остальная часть которого, вопреки данным Геродота, осталась на своей прародине, т. е. влилась в состав скифов. На мой взгляд, источники не дают никаких оснований предполагать, что оставшиеся в Причерноморье киммерийцы и местные племена, покоренные скифами царскими, суть два различных этноса, коль скоро, согласно тому же Геродоту, страна скифов ранее принадлежала киммерийцам 2 и никакие другие народы ни отец истории, ни какой-либо иной античный автор здесь в доскифское время не помещают 3.
Толкование скифского этноса как сложившегося из двух основных компонентов хорошо согласуется с выявленным выше существованием в Скифии двух мифологических традиций о сакральном испытании и о сложении сословно-кастовой структуры и двух терминологических систем для обозначения элементов этой структуры. Одна из этих традиций должна быть, следовательно, признана при-
[168]
надлежащей передвинувшимся с востока скифам царским, а другая — ранее обитавшим здесь скифским племенам, resp. киммерийцам. Глухое свидетельство о том, что киммерийское общество знало социальное членение, соответствующее отраженному в рассмотренных мифологических традициях, мы находим в рассказе Геродота (IV, 11) о реакции различных слоев киммерийского народа на скифское вторжение: «По мнению народа, следовало удалиться и не подвергать себя опасности (в борьбе) с многочисленной ратью, а цари предлагали бороться за родину с наступающими». Понимая термин «цари» в данном контексте буквально, мы не можем уяснить истинного смысла этого пассажа, особенно в свете дальнейших описанных Геродотом событий, когда эти «цари» начинают сражаться между собой. Если же в воинственных царях видеть представителей военной сословно-кастовой группы, противопоставляемой «народу», т. е. земледельческо-скотоводческому населению, этот рассказ становится гораздо понятнее и подтверждает существование у киммерийцев сословно-кастовой стратификации общества. Как отмечает Э. А. Грантовский [1960: 4—5], именно термин «басилевсы» вполне соответствует в греческом языке иранскому parδātа, употреблявшемуся для обозначения «касты военной аристократии, функцией которой, по иранским источникам, является управление и защита, постоянно подчеркивается ее связь с царем, который также происходит из ее среды». Не исключено, что рассказ о борьбе киммерийских «царей» между собой представляет фрагмент исторического эпоса и отражает раскол в среде киммерийской военной аристократии, часть которой признала гегемонию скифов, а часть — нет.
При дальнейшем рассмотрении вопроса о двух компонентах, участвовавших в сложении скифского этноса в Причерноморье, пришельцы-завоеватели условно именуются «собственно скифским» супер-стратным компонентом, а местные покоренные племена — киммерийским субстратом. С уверенностью ответить на вопрос, какая из двух отмеченных мифологических традиций принадлежит первому компоненту, а какая — второму, по всей вероятности, невозможно. В этом плане следует отметить лишь некоторые моменты.
Версия Г-I включает и рассказ о сакральном испытании, и рассказ о сложении сословно-кастовой структуры, тогда как иные варианты этих мотивов представлены не в какой-либо одной, а в различных версиях легенды: мотив испытания — в версии Г-II, а сословно-кастовая номенклатура — в версии ДС. Это позволяет предполагать,
[169]
что версии Г-II и ДС передают собственно одну традицию, тем более что содержание первых частей легенды в них тождественно, и лишь акцентируют внимание на разных аспектах содержания. Но именно версия Г-II, судя по многочисленным воплощениям в изобразительных памятниках, использовалась в Скифии IV века до н. э. для прокламации определенных социально-политических концепций, что, видимо, свидетельствует о ее принадлежности племени, господствующему в скифском объединении, т. е. скифам царским. В свете сказанного приходится не согласиться с Б. Н. Граковым, который, основываясь на упоминании в версии Г-II Гилеи, полагал, что она «территориально ближе связана со скифами-кочевниками в узком смысле, чем со скифами царскими» [Граков 1950: 8].
Традиция, сохраненная Диодором, включена в рассказ о приходе скифов в Причерноморье с востока, т. е. как будто соответствует данным об исторических судьбах скифов царских (ср., однако, ниже о возможном толковании киммерийцев как племен срубной культуры, также продвинувшихся сюда из Поволжья, так что этот аргумент не может иметь решающего значения для атрибуции версии). Отражение той же традиции в позднескифской топонимике позволяет предполагать, что именно она принадлежала господствующей части скифов, т. е. опять-таки скифам царским. (В то же время мы не можем с уверенностью утверждать, что в эпоху сокращения территории Скифского царства и перемещения его центра в Крым в расстановке социально-политических сил в скифском обществе не про[1]изошло коренных изменений и господство по-прежнему принадлежало скифам царским.) Наконец, именно двучленность социальной структуры, отраженная в версии ДС, обходящей молчанием вопрос о жречестве, хорошо согласуется с характером процессов, происходивших в Скифии в V—IV вв. до н. э. (см. разд. 2 и 3 данной главы), что также говорит в пользу принадлежности этой версии скифам царским.
Приведенные данные как будто свидетельствуют о том, что традиция, отраженная в версиях Г-II — ДС, бытовала в среде скифов царских («собственно скифов»), а традиция версии Г-I — ВФ принадлежит «доскифским», киммерийским племенам (ср. в версии ВФ об Авхе, обладателе «киммерийских богатств»). Но нельзя не учитывать, что большинство приведенных свидетельств в пользу такого толкования не обладает абсолютной доказательной силой и сопровождается контраргументами. Это заставляет на данном этапе отка-
[170]
заться от однозначного решения вопроса об атрибуции двух отмеченных традиций. Само же существование этих традиций и соотнесенность их с двумя компонентами, вошедшими в состав причерноморских скифов, представляются установленными.
Однако, анализируя выше эти традиции, мы видели не только их параллельное существование в Причерноморской Скифии, но и другую особенность — значительную близость структуры и основных элементов содержания обоих вариантов отразившего их мифа. Это обстоятельство также требует объяснения с точки зрения предложенного толкования о связи названных традиций с двумя частями населения Скифии. Существенно, что во времена Геродота при сохранении представления о населении Скифии как о совокупности нескольких племен, или, точнее, племенных объединений, это население все же мыслилось как этнически однородное. Скифы царские противопоставлены остальным скифским племенам в социальном, но отнюдь не в этническом плане. Все шесть «племен» суть скифы, противопоставляемые иным, нескифским, народам, чтущие одних и тех же богов (за исключением почитаемого лишь скифами царскими Тагимасада) и т. п. 4 Такое быстрое формирование единого этноса хорошо объяснялось бы этнокультурной близостью обоих компонентов, вошедших в состав скифского народа [Хазанов 1975: 216— 217], т. е. «собственно скифов» и киммерийцев.
Это предположение тем более оправданно, что в последние годы все более широкое признание получает концепция о наличии в Северном Причерноморье ираноязычного населения уже в конце II —начале I тысячелетия до н. э., в киммерийскую эпоху, и об иранской принадлежности самих киммерийцев [Дьяконов 1956: 239—241; Абаев 1965: 125—127; 1971: 11; 1972: 35—37; Грантовский 1975: 80—81]. Отмеченное Геродотом продвижение скифов из Азии предстает в таком случае не как коренная смена населения Северного Причерноморья, а как «одно из периодически повторявшихся пере[1]движений иранских племен на занимаемой ими обширной территории» [Абаев 1971: 11 (курсив мой. — Д. Р.)]. Историко-лингвистические данные и ситуация, следующая из сопоставления двух мифологических традиций скифов, таким образом, хорошо согласуются между собой и свидетельствуют об этнической близости двух компонентов, вошедших в состав скифского этноса.
Предложенный вывод наиболее логично согласуется с той трактовкой археологического аспекта проблемы происхождения скифов,
[171]
которая была в свое время обоснована Б. Н. Граковым. Продвижение в Северное Причерноморье «собственно скифов», нашедшее отражение в рассказе Геродота, он трактовал как проникновение сюда из Поволжья новой волны племен — потомков носителей срубной культуры, первые группы которых переселились на эту территорию значительно раньше. Скифы и доскифское население причерноморских степей, по Б. Н. Гракову, однокультурны и весьма близки этнически. «Передвижение кочевых скифов из-за Аракса-Волги в конце VII века прошло почти незаметно археологически именно из-за единообразия культуры и киммерийцев, и земледельческих, и кочевых скифов» 5 [Граков 1971: 26; см. также: Граков 1954: 166 сл.; Яценко 1959: 23—24].
Такое понимание скифского этногенеза хорошо согласуется с выводами лингвистов о зоне формирования иранских языков и объясняет археологическую [Яценко 1959: 17—24; Лесков 1971] и антропологическую [Дебец 1971: 9] близость памятников доскифского и скифского времени в Причерноморье. Оно позволяет согласовать исторические и мифологические данные о двух компонентах в составе скифского этноса с фактом быстрого слияния их в единый народ, сознающий себя как одно целое и воспринимаемый так сторонними наблюдателями, в частности античными авторами. Именно гипотеза об этнической близости скифов царских и киммерийского субстрата дает возможность объяснить ряд особенностей скифского религиозно-мифологического материала. К ним относятся сходство двух рассмотренных мифологических традиций, наличие единого общескифского пантеона, локализация почитаемых всеми скифами святынь (в том числе тех, которые связаны с легендами о происхождении царей, — Гилеи, следа ступни Геракла на Тирасе — Herod., IV, 82) именно в областях расселения оседло-земледельческих племен, а не в районе обитания скифов царских. Два компонента, слившиеся в составе скифского народа, вследствие общности происхождения имели если не тождественные, то весьма близкие религиозные представления, и формирование единой общескифской идеологии не потребовало ни насильственного насаждения верований, свойственных господствующему племени, ни длительного срока [см. также: Хазанов 1975: 46].
По-иному в ряде работ последних лет трактует вопрос о соотношении культуры скифов и киммерийцев А. И. Тереножкин. По его мнению, киммерийцам в археологическом материале соответствуют памятники типа Новочеркасского клада, а «скифская культура в При-
[172]
черноморье появляется в VII веке до н. э. в сложившемся, готовом уже виде и не обнаруживает в своем комплексе признаков местных традиций» [Тереножкин 1971: 22], причем приносят скифы эту культуру «из глубин Азии» [Тереножкин 1970: 300; 1973: 7]. Я не предпринимаю здесь всестороннего археологического анализа тезиса А. И. Тереножкина об отсутствии в скифской культуре местных традиций: этот тезис уже достаточно убедительно опровергается выводами Б. Н. Гракова, О. А. Кривцовой-Граковой, И. В. Яценко, А. М. Лескова и др. (Отмечу, кстати, что утверждение А. И. Тереножкина [1973: 12], будто аргументы Б. Н. Гракова в защиту преемственности срубной и скифской культур «могут в настоящее время иметь лишь чисто историографический интерес», представляется, мягко говоря, преждевременным.) Остановлюсь лишь на том, как согласуется его трактовка вопроса о происхождении скифов с некоторыми историческими данными. Термин «глубины Азии» страдает, конечно, значительной географической неопределенностью, но, видимо, здесь имеются в виду районы Центральной Азии, что подтверждается выступлениями А. И. Тереножкина на III конференции по вопросам скифо-сарматской археологии (Москва, декабрь 1972 г.), в которых формирование скифской культуры рассматривалось в связи с анализом комплекса тувинского кургана Аржан.
Локализация зоны формирования скифской культуры в столь отдаленных восточных областях вступает в явное противоречие с данными историко-лингвистическими, согласно которым проникновение ираноязычного населения в эти области относится ко времени не ранее первой половины I тысячелетия до н. э. ([Абаев 1972: 37; см. также: Грантовский 1975: 81] — о зоне формирования восточно-иранских языков). Таким образом, концепция А. И. Тереножкина, чтобы быть исторически оправданной, должна прежде всего ответить на вопрос: каким образом ираноязычные скифы (а иранство скифов А. И. Тереножкин не оспаривает) могли к VIII—VII вв. до н. э. не только появиться «в глубинах Азии», но и прожить там срок, достаточный для завершения формирования развитой самобытной культуры? Аналогичное сопротивление встречает эта концепция в антропологических данных. По свидетельству Г. Ф. Дебеца [1971: 9], если бы значительная часть предков скифов пришла в Причерноморье из Средней Азии, в их краниологических характеристиках отчетливо прослеживался бы монголоидный элемент. Тем более такое смешение рас должно было сказаться при передвижении из цен-
[173]
тральноазиатских областей через районы, сакское население которых явно смешано с монголоидами [там же]. Оно, однако, не ощущается в краниологических сериях из Причерноморья (во всяком случае, на современном уровне знания).
Наконец, разрабатывая вопросы происхождения скифов и скифской культуры, А. И. Тереножкин особое внимание обращает на отсутствие в доскифских памятниках Причерноморья такого важного элемента, как изделия звериного стиля, что и позволяет ему отрицать культурную и этническую преемственность доскифского и скифского населения этого региона. Однако уже неоднократно отмечалось, что культура скифов до периода переднеазиатских походов в археологическом плане должна была явно иметь «доскифский облик», т. е. коренным образом отличаться от той, которая известна по комплексам, хронологически более поздним, чем эти походы, или синхронным им, и которая сложилась в ходе восприятия значительного числа переднеазиатских элементов [см., например: Дьяконов 1956: 228 и 238—239, примеч. 3]. Формирование скифского звериного стиля на основе переднеазиатского искусства достаточно четко освещено в работах М. И. Артамонова и ряда других исследователей [см.: Артамонов 1968, там же литература; Артамонов 1973: 218 сл.; Луконин 1971: 107]. Проникновение скифов («собственно скифов», по принятой выше терминологии) в Причерноморье, подчинение ими определенного контингента местных племен, походы в Переднюю Азию и формирование этнического и политического скифского единства — все эти события определили качественный скачок в этнической, социальной, политической и культурной истории скифов, и именно с учетом этого обстоятельства должен решаться вопрос о происхождении скифов и скифской культуры [см. также: Хазанов 1975: 112] 6. Таким образом, представляется, что решение А. И. Тереножкиным вопроса о формировании скифского этноса и культуры вступает в противоречие с целым рядом исторических фактов и явлений. В свете предпринятого выше анализа мифологического материала к фактам, не согласующимся с концепцией А. И. Тереножкина, следует относить и существование в Скифии двух явно родственных мифологических традиций.
М. И. Артамонов, предложивший в 50-х годах свое толкование вопроса об археологической принадлежности скифов и киммерийцев [Артамонов 1950], вновь развернуто изложил его в ряде работ, опубликованных посмертно [Артамонов 1973а; 1974]. Согласно этому
[174]
толкованию, скифы — носители срубной культуры, проникнув в Причерноморье из Поволжья, частично вытеснили, а частично ассимилировали носителей катакомбной культуры — киммерийцев. Не останавливаясь на всестороннем анализе этой точки зрения, необходимом после публикации последних работ М. И. Артамонова, но неуместном здесь, отмечу лишь, что она также предполагает отсутствие этнической и культурной близости между двумя компонентами, вошедшими в состав причерноморских скифов, и, следовательно, не объясняет выявленного выше родства двух бытовавших в Скифии мифологических традиций. Таким образом, концепция Б. Н. Гракова, представляющаяся наиболее логичной во всех прочих отношениях, лучше всего согласуется с выводами, полученными при анализе скифской мифологии.
Обратимся к установленному выше факту близости ряда мотивов скифской (точнее, скифо-киммерийской) мифологии и мифологии среднеазиатских саков. При всей немногочисленности сведений, имеющихся на этот счет, в них безусловно находит отражение единство происхождения тех мифологических систем, в состав которых указанные мотивы входили. Факт этот должен, на мой взгляд, рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу известной этногенетической близости между европейскими скифами и сакскими племенами (или, во всяком случае, некоторой их частью) Средней Азии.
Единство мифологических традиций прямо перекликается с единством этнонимии, нашедшим отражение в надписи Ашшурбанипала из храма Иштар в Ниневии [Thompson 1933 — цит. по: Грантовский 1975: 84]. В этой надписи известный по другим источникам киммерийский вождь Тугдамме (Лигдамис античных авторов) именуется «царем саков» или «царем страны Сака». Общепризнано, что довольно неустойчивое, допускающее взаимную замену употребление в переднеазиатских надписях терминов «скифы-шкуда» и «киммерийцы-гимирри» [Дьяконов 1956: 246—247] не может служить доказательством родства этих народов, а объясняется обобщенным значением, которое придавали этим этнонимам ассирийские писцы [там же: 237—238]. Но для факта именования киммерийца Тугдамме саком это объяснение не подходит, так как термин «сака» совершенно не характерен для ассиро-вавилонских источников. Здесь (вавилонские версии ахеменидских надписей) даже среднеазиатские саки именуются «гимирри». Поэтому приведенный титул Тугдамме спра-
[175]
ведливо рассматривается Э. А. Грантовским [1975: 84] как отражение того факта, что «у племен, проникших в VIII—VII вв. до н. э. в Переднюю Азию из Юго-Восточной Европы, уже существовал этноним “сака”». Наличие общего самоназвания у киммерийцев и саков Средней Азии свидетельствует об их этногенетическом единстве и прямо перекликается с данными о единстве их мифологических традиций.
Неясно, однако, какая часть среднеазиатских саков (в широком понимании этого термина) пользовалась общим с киммерийцами самоназванием 7. Некоторый свет на этот вопрос прольет, возможно, археологический материал, рассмотренный под углом зрения той же гипотезы Б. Н. Гракова о происхождении скифов и киммерийцев от носителей срубной культуры. В последнее время все более очевидным становится факт распространения срубной культуры из Поволжья не только на запад, в Причерноморье, но и на юго-восток, в направлении Средней Азии [Кузьмина 1964: 154]. Роль срубного компонента в формировании тазабагъябской культуры Хорезма твердо установлена [Толстов 1962: 57—58]. Весьма существенные данные получены в ходе исследования А. М. Мандельштамом [1966; 1967] памятников срубного типа в Южной Туркмении. Имеющиеся материалы не позволяют пока во всем объеме представить степень распространения срубных племен в Средней Азии и судьбы их в этом регионе. Но участие их в формировании сакского этноса представляется вполне вероятным. В таком случае именно наличие общего для европейских скифов и киммерийцев и среднеазиатских саков срубного компонента лучше всего могло бы объяснить комплекс фактов, свидетельствующий об их этнической близости, в том числе отмеченные выше скифо-сакские мифологические изоглоссы и наличие у них общего этнонима 8. В свете сказанного можно высказать предположение о допустимости некоторой модификации гипотезы Б. Н. Гракова о кочевых скифах как о второй волне потомков носителей срубной культуры, продвинувшейся в Северное Причерноморье: может быть, в них следует видеть переселенцев не непосредственно из Поволжья, а этнически и культурно близкие к ним группы, ранее проникшие в западные области Средней Азии, в частности в Арало-Каспийское междуморье, и уже оттуда двинувшиеся на территорию Европейской Скифии. Такое толкование позволило бы сохранить практически всю аргументацию Б. Н. Гракова в защиту понимания миграции скифов из Азии как одной из волн переселения потомков
[176]
срубных племен и в то же время пролило бы свет на этнокультурную близость скифов и саков. К тому же это толкование лучше согласуется с данными Геродота о движении скифов в Европу под давлением массагетов или исседонов. К сожалению, именно те области Средней Азии, которые представляют интерес для прояснения этого вопроса, на данном этапе наименее изучены в археологическом отношении. Поэтому высказанные соображения не выходят за рамки предположения, впрочем исторически вполне допустимого. В целом же имеющиеся данные заставляют склоняться к мысли, что «собственно саки», генетически наиболее близкие к европейским киммерийско-скифским племенам, обитали преимущественно в западных областях Средней Азии.


Заслуживает внимания, что в Средней Азии источники фиксируют бытование обеих проанализированных на скифском материале
[177]
систем социальной терминологии (версий Г-I и ДС) и, следовательно, двух мифологических традиций. Не связан ли этот факт с двумя этапами проникновения в Среднюю Азию восточноиранских народов, предположение о которых было недавно вскользь высказано В. И. Абаевым [1972: 37]?
Все сказанное позволяет представить этногенетические отношения между киммерийцами, скифами и саками в виде одной из двух предлагаемых здесь схем (следует подчеркнуть, что схемы отражают лишь этот аспект и никоим образом не исчерпывают проблемы происхождения названных народов).
Вопрос об этногенетических отношениях киммерийцев, скифов (как в узком смысле «собственно скифов», продвинувшихся в Причерноморье с востока, так и сложившегося там скифо-киммерийского единства) и саков (в конкретно-этническом понимании) требует дальнейшего изучения, но представляется бесспорным существование между ними близкого родства. Эта точка зрения хорошо согласуется с историческими, лингвистическими, археологическими и, добавлю теперь, мифологическими источниками 9.
[178]
Цитируется по изд.: Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М., 2006, с. 165-178.
Примечания
1. Следует, однако, отметить, что ряд моментов, подробно освещенных в статье, содержащей толкование пекторали [Раевский 1978], затронут в настоящей книге более кратко или вообще обойден молчанием. Сделано это не потому, что развиваемая там интерпретация теперь представляется мне ошибочной, но исключительно с целью сосредоточить внимание на ключевых для данной книги вопросах.
2. Предположение, что в пекторали значимыми являются не только выбор воплощаемых мотивов, но и закономерности их взаиморасположения, лучше всего подтверждается случаями, когда прямое истолкование находят не отдельные представленные здесь образы, а определенные их сочетания или по крайней мере выявляется повторяющийся характер таких сочетаний, свидетельствующий, что они образуют стабильные системы, выступающие в качестве субсистем по отношению к макросистеме — композиции пекторали в целом. Так, расположение изображений собаки, преследующей зайца, вблизи краев нижнего фриза пекторали из Толстой Могилы аналогично размещению этого мотива на пекторали из Большой Близницы — памятнике, значительную не только художественную, но и смысловую близость которого к анализируемому предмету единодушно отмечают все исследователи (см., например, [Мачинский 1978а: 145]). Существенно, что изображение зайца помещено у краев и на серповидной пекторали из Зивийе — комплекса, занимающего столь заметное место среди памятников, демонстрирующих процесс формирования скифского искусства. Последнее совпадение особенно любопытно в свете предположения, что пекторали вообще являлись характерным элементом урартского убора и именно оттуда были заимствованы скифами [Ghirshman 1964: 104 и 308—309]. Сближают пекторали из Толстой Могилы и Зивийе и некоторые другие моменты, о которых речь пойдет ниже. Р. Гиршман, характеризуя пектораль из Зивийе, отмечал, что ей присуще граничащее с нелепостью разнообразие образов, и полагал, что создавший ее мастер заимствовал мотивы из древневосточного искусства, не понимая их религиозного и символического значения [Ghirshman 1964: 310, 104]. Близкой точки зрения придерживался В. Г. Луконин, считавший, что «мастер Зивие, имея перед собой разнородные памятники, копирует некоторые из образов, не заботясь ни об их смысле, ни об их иконографии» [Луконин 1977: 22]. Вполне возможно, что исконная древневосточная символика воспроизводимых зооморфных мотивов была в самом деле безразлична для мастера пекторали. Но можно предполагать, что здесь уже шел процесс их переосмысления, о котором говорилось в гл. III. Тот факт, что на причерноморских пекторалях свыше двух столетий спустя проявляются некоторые закономерности размещения зооморфных образов, представленные уже на экземпляре из Зивийе, свидетельствует о семантической мотивированности этих закономерностей и заставляет предполагать, что уже в ту эпоху эти образы приобрели то значение, которое было присуще им в Скифии.
3. В предыдущей работе я ошибочно трактовал обеих этих птиц как уток [Раевский 1978: 119 и 131]. По приводимому Б. Н. Мозолевским определению орнитологов, в левой от зрителя (правой от носителя) части представлена дикая утка, а в противоположной — представитель соколиных [Мозолевський 1979: 89, 86].
4. Представленный на пекторали способ такого согласования интересен тем, что он достигается путем совмещения обеих подсистем — горизонтальной и вертикальной — на одной плоскости. Подобный способ реализуется в разных культурах не только в изобразительных памятниках. Его «географический» аспект нашел выражение в проанализированных Г. М. Бонгард-Левиным и Э. А. Грантовским [1974] уже упоминавшихся представлениях об отождествлениях севера с верхом и юга с низом в традициях древних индоиранцев (обратное соотношение, т. е. представление о «юге — верхе» и «севере — низе» см., к примеру, в селькупской традиции [Прокофьева 1976: 112—113]). Принципиально иной способ согласования горизонтальной и вертикальной космических моделей демонстрирует, например, космология джайнизма, где вселенная представляется в виде гигантской восьмерки, петли которой суть верхний и нижний миры, тогда как мир людей локализуется в точке соединения этих нетель и одновременно в центре гигантского горизонтального диска [Sengupta 1973: 16]. Здесь две модели не накладываются одна на другую, а сопряжены в трехмерном пространстве.
5. Совершенно аналогичный принцип применен при построении упомянутой пекторали из Большой Близницы. Здесь все изображение размещено в одном ярусе, но внутри его прослеживается то же смысловое противопоставление, что и между ярусами пекторали из Толстой Могилы: в центральной части помещена сцена брачных игр животных, сближающихся по смыслу с образами плодоносящего скота нашего верхнего фриза, тогда как периферическую зону занимают сцены преследования зайца собакой, идентичные тем, которые мы видим на нашем нижнем поясе. Перед нами, таким образом, та же семантика отношений между центром и периферией.
6. Такое же, как на пекторали, композиционное и семантическое противопоставление тех же мотивов мы видим на известной двухчастной бляхе из Семибратнего кургана № 2 [Артамонов 1966, табл. 113]: верхнюю ее часть занимает изображение самки оленя, кормящей детеныша, а нижнюю — орла, терзающего какого-то зверя. В последнем Е. В. Черненко [1973: 67] видит зайца, что особенно интересно в свете наличия мотива преследования зайца в нижнем фризе пекторали, а также рассмотренной в гл. II семантики образа этого животного в Скифии (см. также ниже).
7. Помещенный рядом с овцой в обеих частях композиции человек, как представляется, не должен включаться в этот ряд, поскольку он, судя по всему, является не самостоятельным персонажем, а служебной фигурой, необходимой для воплощения мотива доения — одного из аспектов плодоносящей функции скота.
8. Как уже говорилось, в индийской традиции представленная в верхнем фризе пекторали пентада соотносилась с иными пятичленными классификациями по закону образования семантических рядов, когда каждый элемент, обладая собственным «ближайшим» значением, в то же время указывал на все остальные, являлся как бы их метафорическим обозначением. Именно ближайшее значение «пяти частей скота», несомненно, было наиболее актуально в Скифии с ее по преимуществу скотоводческим хозяйством. В то же время нельзя исключать, что и в нашем случае семантика представленной пентады многозначна и ее члены, «не теряя своей конкретности, становятся знаками других объектов и элементом символических классификаций» [Мелетинский 1976: 231]. Показательно, что у обеих представленных здесь коров на лбу солярные розетки. Между тем из приведенной выше таблицы видно, что как раз коровы как элемент ряда «скот» в индийской традиции соотносились с небом в ряду «миры» и солнцем в ряду «божества». Это позволяет предполагать не только многозначность представленной на пекторали пентады, но и наличие одинаковых перекодировок в индийской и скифской традициях, восходящих, очевидно, к эпохе индоиранского единства. В таком случае смысл рассмотренной композиции не исчерпывается охарактеризованной скотоводческой магией, выявленной выше, а отражает пятичленную модель мира (ср. центр и четыре стороны света в описанном индийском ритуале), выраженную одним из возможных кодов. Не исключено, что с этой же пятичленной моделью связано наличие в среднем регистре пяти птиц на мировом дереве и их расположение.
9. Именно в свете такого толкования действия, представленного в центральной сцене пекторали, не могу согласиться с мнением Б. Н. Мозолевского [1979: 221], что «точнейшую иконографическую аналогию» этой сцене представляет одна из групп, изображенных на золотой чаше из Хасанлу. Разницу между ними составляет не «исключительно объект, на который направлено действие основных персонажей: на пекторали это одеяние, на чаше — человек», но прежде всего само воплощенное их действие: шитье в первом случае и облачение третьего персонажа (вообще отсутствующего на пекторали) — во втором. Поэтому толковать жесты персонажей как совпадающие до деталей никак не приходится. Соответственно сходство двух сравниваемых сцен в лучшем случае ограничивается позой и поворотом фигур, а этого явно недостаточно, чтобы вместе с Б. Н. Мозолевским полагать, что близость их не только затрагивает иконографию, но и предполагает единство смысла.