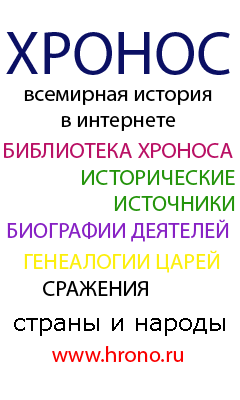Тесля А.А. Остзейский вопрос в переписке Ю.Ф. Самарина 1846 – 1848 годов
Первое знакомство Ю.Ф. Самарина с остзейским вопросом произошло почти случайно – тяготясь службой секретаря в I-м департаменте Правительствующего Сената, а затем секретарем общего собрания первых трех департаментов, где он вынужден был заниматься бесплодной бумажной работой 1), Самарин с радостью принял в начале 1846 г. предложение перейти на службу в министерство внутренних дел, где был прикомандирован в качестве делопроизводителя в Комитет об устройстве быта лифляндских крестьян. Новая служба давала Самарину то, в чем он более всего нуждался – ощущение смысла и полезности своего труда. Передавая в письме к Хомякову направление работ, возложенных на Комитет, Самарин заключал: «Вы видите, что дела довольно и, что весьма редко, дело это такого рода, что можно взяться за него с полным сочувствием, без зазрения совести [выд. нами – А.Т.]» [6, с. 415]. Эта перемена обрадовала его московских друзей как возможность избавиться от давящей петербургской бюрократической рутины и Хомяков, получив от Самарина известие о том, что поездка в Ригу откладывается [6, с. 417], писал: «Одно грустно, что все-таки Питер. Я было за вас порадовался, что вы оттуда выбираетесь хоть в Чухляндию настоящую, а теперь опять, кажется, не то выходит» [7, с. 261 – 262]. Из этого письма Хомякова достаточно ясно, что московские славянофилы мало интересовались и вообще имели весьма слабое представление об остзейских губерниях 2).
В момент, предшествующий назначению в Комитет об устройстве быта лифляндских крестьян, Самарин следующим образом представлял стоящие перед комитетом задачи:
«В двух словах задача заключается в том, чтобы эманципировать низшие классы, или, лучше, все классы (исключая одного высшего), от исключительного господства дворянского сословия. Обращение латышей в православную веру, вовсе не вынужденное, а свободное, совершится неминуемо, само собою; остается только отстранять препятствия, воздвигаемые на каждом шагу немцами-протестантами и особенно немцами-православными. Этот факт чрезвычайно важен, и, по моему убеждению, его никто не понимает: ни те, которые содействуют ему, ни противная сторона» [6, с. 414].
«Православное движение, по моему убеждению, началось вследствие свободной потребности; потребность эту потому только нельзя назвать чисто-религиозною, или, лучше, исключительно-религиозною, что для простого народа, в противоположность образованным классам, религия еще не отрешилась от жизни… […] Народ понимает перемену религии, как преобразование всего быта; духовная потребность богослужения, материальная потребность куска хлеба и уголка земли, сознание опоры, которую он найдет в правительстве, вражда к презирающему его землевладельцу – все это выразилось в настоящем событии. Только односторонний взгляд может объяснять его из одного побуждения, за исключением других; они участвовали в нем все вместе, нераздельно» [6, с. 417] 3).
Таким образом, еще до ознакомления с остзейскими делами, у Самарина была готовая схема интерпретации – переход латышей в православие совершится «сам собою» при условии, что будут устранены помехи со стороны немцев и «немцев-православных». Задача состояла в освобождении низших сословий от «исключительного господства» остзейского дворянства и выполнение данной эмансипаторской задачи должно было взять на себя императорское правительство, дав крестьянам: «1) неотчуждаемую поземельную собственность, 2) право перехода в соседние губернии на условиях, 3) право приобретения земель, 4) для русских: право селиться на условиях в поместьях остзейских помещиков. Само собою разумеется, что право приобретения земель распространяется на все сословия» [6, с. 415].
Уже в январе 1846 г. Самарин рассматривает остзейский вопрос сквозь призму борьбы с «немецкой партией», причем его энтузиазм основывается на, как он думает, решимости императора проводить означенную политику: «…Приезд Государя положил конец колебаниям. На докладной записке Перовского 4) он написал своею рукою против всех вопросов: “руководствоваться прежними разрешениями, без всяких уступок и отступлений, а с теми, которые хотят воздвигать препятствия, кто бы они ни были (последние слова им подчеркнуты), поступать по всей строгости законов”. Убедившись из этого, что делу дается надежный ход, я решился принять сделанное мне предложение ехать в Ригу… [выд. нами – А.Т.]» [6, с. 415] 5). Положение дел в Лифляндии изначально представлялось Самарину нетерпимым – и, как ему в тот момент представлялось, опираясь на прочную поддержку, исходящую от самого императора, министерство внутренних дел должно было решительно преобразовать весь порядок вещей в Остзейских губерниях, начиная с положения крестьян заканчивая устройством «гильдий, цехов, магистрата и, вообще, торговых и городских законов» [6, с. 415]. «Реформаторский зуд», охвативший Самарина, освободившегося от рутины сенатских дел и причастного теперь, хоть и в «малых чинах», к высшей правительственной деятельности, не вызвал одобрения со стороны Хомякова. Последний, не обсуждая по существу планы реформ в Лифляндии, сетовал только на откладывающую поездку Самарину в Ригу:
«Хоть комитет ваш и устроен по Чухонским делам, да совсем не то действовать на месте, видеть своими глазами, бороться с наличными страстями, наконец, делать самому справки, или действовать издали, по бумажным донесениям, по чужим справкам, нападать на заглазные страсти и заглазных людей и заступаться также за людей, которых от роду не видывал. Все это дело мертвое и холодное, и скучное; добро бы было легкое и сопряжено с большим досугом, а этого и ждать нельзя [выд. нами – А.Т.]. Так что мы можем радоваться вестям об вас, но не за вас, потому что положение ваше крайне не завидно. Терпи казак, хоть и атаманом не будешь» [7, с. 262].
Хомякова не особенно интересует административная преобразовательная активность, в которую вовлечен Самарин – ему куда важнее то, как эти дела скажутся на личности Самарина и в какой мери они оставят последнему время для досуга, для тех интеллектуальных интересов, которые в глазах Хомякова, по крайней мере в то время, имеют наибольшую ценность. Самарин ощущает возрастающее отдаление, его все больше увлекают практические дела, возможность влиять на политику, действовать – и, не решаясь открыто возражать Хомякову, старшему и авторитетному другу и учителю, он вставляет критические выпады в адрес «москвитизма», упреки в бездеятельности и пустых разговорах, в анархии и недооценке значения правительства и принимаемых им мер, в письма к К.С. Аксакову [2, с. 40 – 41].
Ближе познакомившись с делами Комитета и с лицами, призванными решать проблемы лифляндских крестьян, Самарин быстро утратил прежнюю уверенность, однако сохранил полученное им в самом начале представление об общем направлении реформ, которые должно предпринять в остзейских губерниях:
«Тоска и отвращение сжимают сердце при виде тех людей, которым приходится отстаивать добрые начала. Чего не опорочат, чего не исказят они! Что станешь делать? Немудрено отойти в сторону и умыть руки; но совестно, когда чувствуешь правоту самого дела, отказаться от участия из опасения замарать руки. Все осуждают меня и смотрят на меня с упреком и соболезнованием; до этого мне дела нет… Не менее того я решился. Мое участие в этом деле имеет большую важность, чем я сам предполагал. Все знают, что я действую по убеждению, следственно внутренно одобряю если не частные меры, то цель правительства; в том кругу, к которому я принадлежу, это – неслыханная новость, признак нового направления…» [6, с. 419 – 420].
В мае месяце, после закрытия Комитета, Самарин получил назначение чиновником особых поручений при министре внутренних дел и был прикомандирован к ревизионной комиссии, которой было поручено обревизирование городского устройства Риги и составление проекта преобразования последнего. Выехав из Петербурга 21 июля вместе с председателем комиссии Я.В. Ханыковым, он почти сразу же окунулся с головой в работу. Помимо массы частных поручений, на него Ханыковым было возложено составление исторического обзора городского устройства Риги – работа, в руках Самарина разросшаяся в капитальное историческое исследование 6).
Сама Рига понравилась Самарину, едва ли не вопреки его воле: «Все здесь неприязненно и чуждо нам, и, несмотря на это, с участием и почти с сочувствием смотришь на памятники и следы прошлого, утратившие всякий смысл в настоящем, потому именно, что везде ощущается присутствие свободно развившейся жизни» [6, с. 272]. Однако, немецкое бюргерство, произведшее первоначально на Самарина самое положительное впечатление 7), затем характеризуется им все более негативно – погруженный в бесконечные дрязги с Рижским магистратом, столкнувшись «с местными приемами политической борьбы, с … политическим сутяжничеством» [2, с. 47]8), 6 октября 1846 г., пробыв в Риге чуть более двух месяцев, он пишет А.Н. Попову:
«Присмотрелся я к немцам и узнал вблизи, что такое их хваленая честность и немецкий Biederkeitssinn; 9) если б я захотел рассказать вам здешнюю скандалезную хронику служебную, торговую и общественную, то я мог бы исписать целую тетрадь. Но здесь рука руку моет; для каждой проделки, самой подлой и гнусной, придуман благовидный предлог. Номенклатура, терминология здесь хороша; например, взяток гнушаются, но кто же осудит добровольное приношение? Хороши они особенно в сношениях в Русскими!» [6, с. 276 – 277].
Следуя за наблюдением Б.Э. Нольде [2, с. 51], отметим, что если бюргерство и его «проделки» вызывали презрение, то совершенно иной была реакция Самарина на встречу с местным немецким дворянством. В августе 1847 г. в письме к А.О. Смирновой-Россет Самарин так передает свои впечатления:
«Возвратившись в Ригу 10), я застал уже все лифляндское дворянство, съехавшееся на ландтаг. Какие вдруг появились бороды, галстуки и охотничьи куртки! Вся эта компания чрезвычайно оригинальна, и хотя у меня вовсе не лежит к ней сердце, однако, должно сознаться, в ее движениях и речах заметно какое-то сознание собственной силы и собственного достоинства, которое, конечно, не есть еще добродетель, но, по крайней мере, предохраняет от многих гадостей [выд. нами – А.Т.]» [6, с. 375].
В письме к М.П. Погодину от 9 октября того же года Самарин подводит итог своим рижским впечатлениям:
«Я могу сказать это теперь: все здесь дышит ненавистью к нам, ненавистью слабого к сильному, облагодетельствованного к благотворителю и вместе гордым презрением выжившего из ума учителя к переросшему его ученику. Здесь все окружение такого, что ежеминутно сознаешь себя, как русского, и, как русский, оскорбляешься» [6, с. 255 – 256].
Назначение остзейским генерал-губернатором кн. А.А. Суворова, после недолгого колебания осудившего политику предшественника и принявшего сторону остзейских привилегированных сословий, а в особенности изменение внутриполитического курса (после «Галицийской резни» 1846 г. и в особенности после революций 1848 г.), фактически поставили крест на планах масштабных реформ в прибалтийских губерниях. Утратив надежды на законодательную реализацию предложений комиссии в обычном правительственном порядке, Самарин попытался одновременно воздействовать на общественное мнение и политику правительства другим путем – написанные им в 1848 г. «Письма из Риги» стали одним из первых образчиков русской политической публицистики.
Однако вряд ли можно согласиться с тезисом, что пребывание в Лифляндии существенно изменило взгляды Самарина – «Письма из Риги» содержательно мало отличаются от суждений Самарина о прибалтийских губерниях, высказанных им еще до отъезда в Ригу. Изменилось не содержание – появились эмоции, отсутствовавшие до столкновения с лифляндским бюргерством и рыцарством. Показательно, на наш взгляд, что именно в период пребывания в Риге Самарин завязывает переписку с Погодиным – уважаемым им университетским наставником 11). Взгляды Самарина на национальный вопрос в этот момент ближе всего именно к воззрениям Погодина – «романтический национализм» последнего [1, с. 122], опирающийся на ксенофобское противопоставление слабо рефлектированного и недифференцированного «русского» иному, «западному», был в этот момент эмоционально привлекательнее Самарину по сравнению с туманными и слишком сложными попытками определить национальное у Хомякова или Киреевского. Самарин в этот момент нуждался в ясности противопоставления – борясь и ощущая себя передовым борцом с лифляндским рыцарством, «немцами-протестантами» и в особенности с «немцами-православными», засевшими в петербургских министерствах и в петербургском высшем свете, ему потребен был четкий образ врага 12).
Таким образом, на наш взгляд идейная эволюция Ю.Ф. Самарина по «остзейскому вопросу» в 1846 – 1848 гг. на основании его переписки может быть охарактеризована следующим образом:
1. Взгляды Самарина на содержание остзейского вопроса и на пути реформирования сословных и поземельных отношений в крае, на распространение православия сложились еще до его причисления к Комитету об устройстве быта лифляндских крестьян.
2. Самарин соглашается принять участие в Комитете, а затем и в трудах ревизионной комиссии, поскольку его понимание необходимых реформ совпадает с программой министерства внутренних дел. Самарин настойчиво подчеркивает, что действует не как чиновник, но постольку, поскольку его взгляды совпадают с тем, что он считает целью правительств, т.е. ставит себя в положение деятеля, а не исполнителя.
3. Пребывание в остзейских губерниях и непосредственное знакомство с тамошним положением вещей, существенно не изменив содержание взглядов Самарина, изменило его эмоциональное отношение к «остзейскому вопросу». Высшие прибалтийские сословия, будучи подданными Российской Империи, в то же время не считали себя частью России, утверждая и акцентируя собственное культурное превосходство над основным народом империи. Слабые и малочисленные сами по себе, местные дворяне обладали несоразмерным влиянием на ход государственных дел – позволяли себе управлять Россией, не считая себя ее частью. Сочетание силы и слабости, поразившее и возмутившее Самарина в местном дворянстве, одновременно в другом отношении являлось ситуацией самой России.
4. Фактический отказ от задуманных реформ, отказ от того, что Самарин считал «целью правительства», приводит его к решению воздействовать на общество и правительство – если сначала Самарин хотел пересылать их Хомякову, чтобы тот «давал им ход» [6, с. 258], то затем он сам становится ревностным распространителем своей публицистики в высших сферах. Не случайно Самарин, записывая свой разговор с императором в Зимнем дворце 17 марта 1849 г., отмечает слова Николая, сказанные им в конце беседы: «Вот ваша книга; вы видите, что она у меня и остается здесь». Т.е. Самарину удалось то, на что он рассчитывал – довести свою точку зрения до императора, причем точку зрения не отдельного человека, чиновника и т.п., но «направления»; говорить с властью и обществом от лица направления. Император не согласился, но выслушал и отчасти объяснился в своей политике. Нольде так характеризовал эту известную беседу: «Разговор императора и Самарина вечером 17 марта 1849 г. необыкновенно ярко передает столкновение традиции с новшествами политического выступления Самарина. […] В свете всего последующего невольно спрашиваешь себя, кто прав был в своей оценке русской окраинной политики – молодой, талантливый глашатай новой народнической истины или узкий, но выдержанный и последовательный носитель привычной консервативной государственности» [2, с. 54 – 55]. В определенном смысле именно данный разговор стал «рубежным» для политической мысли Самарина – обозначая границу между прежним размытым «национальным» движением, не видевшем конфликта с основами существующего устройства империи, и модерным национализмом зрелого славянофильства, осознающего необходимость сложной, болезненной и длительной трансформации империи и полагавшем правильным направлением такой трансформации переход от традиционной империи к национальному государству.
Примечания:
* Тесля А.А. каф. «Философии и культурологии» ТОГУ, г. Хабаровск.
** Исследование выполнено в рамках гранта от Совета по грантам Президента Российской Федерации (2011 г.). Тема: «Национальное самосознание в публицистике поздних славянофилов»; № гранта: МК-1649.2011.6.
1. Ю.Ф. Самарин писал из Петербурга брату Михаилу 8 марта 1845 г., описывая службу в Сенате: «Занятия – самые интересные, сопряженные с приятностью и пользою для ума и сердца. Экзекутор принесет кипу полученных из разных присутственных мест рапортов; их запишешь в настольный реестр и отметишь год, число, номер и т.д. Потом принесут копий с 30 с 3-х или 4-х указов; их перечтешь в 6 или 7 рук и выправишь. Потом дадут на дом составить записку из какого-нибудь дела или извлечение из варварской просьбы. Сперва меня бесили беспрестанные повторяя, дикое правописание вычурный слог; я принимался поправлять ошибки и слог, но после бросил это дело, как ненужное и ни к чему не ведущее. […] Боже мой, сколько времени, и как бы можно было употребить его! На занятия, к которым лежит у меня сердце, изредка удается урывками посвятить часа два-три, сделаешь кое-какие выписки, но ни одна мысль не успеет созреть и выразиться» [6, с. 351 – 352]. Жалобы на бесплодность и скуку, отягощаемую бессмысленностью подобного труда, часты в письмах Ю.Ф. Самарина своим московским друзьям и родным. В письме к отцу от 23 марта 1845 г.: «Любезный папенька, в последнем вашем письме вы увещеваете меня вооружиться терпением для преодоления сухого и скучного труда. Признаюсь, очень интересных занятий, таких, которые требовали бы сильного участия мысли, я и не ждал. […] Пугает и сокрушает меня не сухость, а бесплодность труда» [6, с. 316]. Самарин рассчитывает найти какой-то выход из угнетающего его положения и думает о том, чтобы найти службу за пределами Петербурга; А.С. Хомяков в письме от 17 декабря 1845 г. соглашается с размышлениями Самарина [6, с. 411 – 413]: «Вам, разумеется, надобно выехать из Петербурга; но куда? Всего бы лучше, если бы можно на год или более за границу; но по вашему письму это, кажется, совершенно невозможно. Мой совет выбрать (если уже в Москву нельзя или можно только с какою-нибудь невозможною секретарскою должностью) одну из ближайший губерний. Мне кажется, нам всем надобно быть довольно близко от друга» [7, с. 260].
2. С положением дел в остзейских губерниях и о планах правительства в их отношении, в этот момент обсуждавшихся в министерстве внутренних дел, информировал московских славянофилов помимо Самарина также А.Н. Попов [6, с. 414].
3. Спустя два десятилетия, полемизируя с остзейскими публицистами в «Окраинах России», Самарин будет неоднократно повторять данный аргумент, оттачивая его форму, но не меняя по существу. В послесловии ко 2-му выпуску «Окраин» Самарин писал: «“Переходившие в православие побуждались житейскими расчетами, ожиданием выгод, надеждою получить землю, зажить лучше – стало быть убеждение было не при чем, и они просто продавали свою веру”. – Странный вывод, и что за удивительное легкомыслие в этом стало быть! Человек, взятый порознь, и тот очень редко, в любом своем действии, следует одному побуждению, всецело и безраздельно наполняющему душу; а, наоборот, почти всегда, при некотором внимании, подмечает в себе множество самых разнообразных двигателей, единовременно направляющих его волю: это общий закон человеческой природы; а тут дело идет о целой массе людей темных, неразвитых, не обладающих способностью внутреннего анализа, людей лишенных всякой возможности отрешиться даже мысленно от своей житейской обстановки и перенестись в область отвлеченных вопросов; а мы не хотим понять, что […] их мучили и томили единовременно две неудовлетворенные потребности: голод плотский и жажда духовная. Чтобы целый народ, сам собою, мог пожелать обратиться из лютеранства в православие, это нам кажется почему-то до такой степени диким и невероятным, что мы хватаемся с радостью за всякое другое, подвертываемое нам объяснение, лишь бы оно обходилось без участия духовных инстинктов, и при этом не замечаем, что предлагаемое нам толкование, которому мы добродушно поддакиваем, в сто раз невероятнее» [4, с. 296 – 297]. Отметим, однако, существенное изменение тона и оценки – если в письме к Хомякову от февраля 1846 г. сложный характер побуждений к переходу в православие излагается посредством романтической лексики, имеющей положительную оценку: «неотрешенность от жизни», «преобразование всего быта», «нераздельность», то в «Окраинах» лексический выбор указывает уже не столько на «органичность» делаемого выбора, сколько на «неразвитость» крестьян («неразвитость» в противоположность и «культуре» и «образованию»).
4. Перовский, Лев Алексеевич (1792 – 1856) – министр внутренних дел в 1841 – 1852 гг.
5. Уже месяц спустя надежды Самарина на определенность политики правительства рассеиваются и остается в вера в «Русского Бога» a la'Тютчев: «…На счет успеха начатого дела меня обнадеживает, может быть, суеверное, темное предчувствие, что русское правительство, несмотря на всего недостатки, запечатлено каким-то character indelebilis, как говорят богословы, которого оно вполне утратить не может; есть какая-то разумная сила, ни в ком в особенности не проявляющаяся, но которая, будучи лишена представителя или органа, все-таки, наперекор всем, определяет известный образ действий, известное положение правительства» [6, с. 420].
6. По окончании ревизии исследование было отпечатано в 1852 г. под заголовком: «Общественное устройство города Риги. Исследование ревизионной комиссии, назначенной министром внутренних дел. 1845 – 1848. Том первый». Хотя публикация и была назначена исключительно «для лиц высшего управления», однако, как писал в биографическом очерке Д.Ф. Самарин, «бывший министр внутренних дел Л.А. Перовский не решился выпустить его из своего кабинета и все издание погибло; уцелело только 2 – 3 экземпляра, составляющие теперь библиографическую редкость» [4, с. XVII]; для публики работа стала доступной после переиздания ее в 7-м томе собрания сочинений Ю.Ф. Самарина [3, с. 163 – 634].
7. См. лирический пассаж Самарина о «среднем сословии» в письме к А.О. Смирновой-Россет от 28 августа 1846 г. [6, с. 358 – 359].
8. 22 января 1847 г. Самарин писал из Риги А.О. Смирновой-Россет: «Я теперь занимаюсь изучением дел по некоторым частям здешнего управления лет за 10 тому назад. Не могу передать вам, какое это вселило во мне отвращение к этому роду деятельности вообще. Недобросовестные недомолвки, умышленное распространение несбыточных обещаний или тщетных угроз, сознательная несправедливость для примера, наконец, этот взгляд на вещи, совершенно отстраняющий понятие о том, что истинно и ложно, право и неправо, взгляд бездушного исполнителя, который видит в мире только средства и препятствия к исполнению мысли не его, к достижению цели, не им поставленной и которая завтра заменена будет другою или перенесена на другой край, все это – не личные пороки и недостатки, а неизбежные условия этой деятельности. Вот что ужасно!» [6, с. 363].
9. «Немецкое прямодушие».
10. Самарин ездил 11 – 17 августа в Ревель.
11. См. воспоминания Ю.Ф. Самарина о Московском университете, написанные им в 1855 г. по предложению К.С. Аксакова [5, с. XIII].
12. В 1848 году Самарин пытался убедить Хомякова вновь начать тесное сотрудничество с Погодиным, объединить с ним усилия, на что Хомяков отвечал: «…Думать о действии с ним заодно просто невозможно; для этого надобно бы было, чтобы у него было мнение какое-нибудь, а этого-то и нет. […] Смотреть на него, как на союзника, нельзя; он на это слишком бесхарактерен, но пользоваться им для пользы общей должно, когда он случайно стремится к добру» [7, с. 271].
Литература:
1. Виттекер, Ц.Х. Граф С.С. Уваров и его время / Пер.с англ. Н.Л. Лужецкой. – СПб.: Академический проект, 1999. – 350 с.
2. Нольде, Б.Э. Юрий Самарин и его время. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 544 с.
3. [Самарин, Ю.Ф.] Сочинения Ю.Ф. Самарина. Т. VII: Письма из Риги и История Риги. – М..: Типография А.И. Мамонтова и Ко, 1889. – CXXXV+658 с.
4. [Самарин, Ю.Ф.] Сочинения Ю.Ф. Самарина. Т. VIII: Окраины России. – М..: Типография А.И. Мамонтова и Ко, 1890. – XXVII+622 с.
5. [Самарин, Ю.Ф.] Сочинения Ю.Ф. Самарина. Т. IX: Окраины России. – М..: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1898. – XXXIV+485 с.
6. [Самарин, Ю.Ф.] Сочинения Ю.Ф. Самарина. Т. XII: Письма 1840 – 1853. – М..: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1911. – XII+477 с.
7. [Хомяков, А.С.] Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова. Т. VIII: Письма. – М.: Университетская типография на Страстном бульваре, 1900. – 480+57 с.
(См. эту статью в формате PDF).